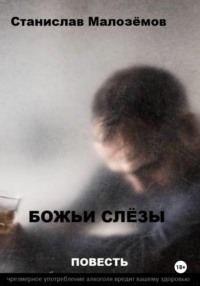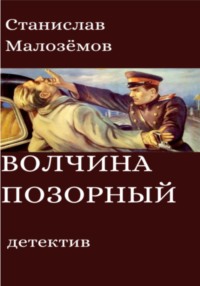полная версия
полная версияВсю жизнь я верил только в электричество
Он дал газу, попылил, как положено большой грузовой машине, и исчез за серой завесой.
Бабушка перекрестилась, мама поправила на себе спортивный костюм и тонкие перчатки, отец с Шуриком шлёпнули друг друга ладонью об ладонь.
Потом все посмотрели на меня и сказали, не сговариваясь, хором:
– Ну, готов?
– А то! – браво откликнулся я любимой репликой дяди Васи. – Всегда готов. Я ж пока пионер!
Все искренне засмеялись и я тоже. Взяли всё своё и с удовольствием пошли забирать на зиму у своей земли своё пропитание.
– На старт! – Шурик воткнул лопату под свой первый куст. Мы повторили.
– Внимание! – шепотом настроил нас отец. Я поставил ногу на правый край лопаты и закричал:
– Марш!!!
И меня понесло. Я начал с бешеной скоростью перебрасывать лопату с куста на куст, вгрызался остриём, поддевал и метал землю с красноватыми клубнями назад потому, что сам летел вперед. Скорость я включил сразу четвертую, минуя три предыдущих. Потому как сила у меня была молодецкая, волю к победе в меня вдолбили на тренировках, земля оказалась мягкой и легкой на подъём, а в крепких руках моих не детская лопаточка была для игры в песочнице, а такая же здоровенная, как у отца и Шурика. И наточил её лично дядя Вася сам, крупный специалист по заточке всего острого. Ей можно было даже бриться, если бритва сломается или потеряется. Мне – то оно пока без надобности, Но отца с братом я на всякий случай об этом открытии моём оповестил, не сбавляя хода и не оглядываясь. Но нутром чуял я, что справа сбоку нет никого рядом. Мне выпало копать по левой меже. Шурику – по средней, а отец играл в команде правого-крайнего.
На десятой минуте, раскидав по двенадцать кустов с пяти рядков, я почувствовал такой прилив энергии и такую высокую степень мастерства, будто копал картошку лет сорок, всегда был впереди всех и моя фотография висела на городской доске почета, на всех деревенских досках в области она тоже держалась вверху годами. У меня было переходящее красное знамя за лучшие достижения среди всех копальшиков картошки республики, но оно просто продолжало называться переходящим, хотя никто у меня его выиграть не мог и оно годами висело у меня над кроватью вместо бабушкиного коврика вышитого гладью., На коврике две девочки купались в голубом озере вместе со стаей лебедей. А на родине героя, в центре Кустаная, возле «Детского мира» мне поставили гипсовый бюст при жизни.
Так несся я к победе, что не видел никого и ничего. На ходу сбросил рубашку, ещё через пять метров майку потому, что пот брызгал из меня сплошным фонтаном, заливая газа, затекая в штаны и выливаясь через них по ноге в кеды. Хлюпало так громко, что слышали все наши.
– А чего плачешь, дитятко!? – жалобно пропел Шурик издалека.
– Тяжела доля крестьянская, – объяснил отец всем. – Не только хлеборобы море слез проливают, пока от семян доведут пшеницу до элеватора. Рыдают все сельхозники. А картошка – это наш второй хлеб. Поплачь, Славка, мученья свои залей слезой! И полегчает.
Послушал я эти издевательские идиотские шуточки и подналёг по-новой на черенок. И ведь не со зла, а подгоняемый энтузиазмом и страстью к победе понесся я дальше, оставляя за собой горки красного, какого-то очень высокосортного картофеля. Посадочную, почти проросшую картошку, в качестве семян дал друг деда моего Паньки дядя Гриша Гулько. У него всегда были самые богатые урожаи среди всех родственников. А дед себе оставил немного, а остальное раздал детям своим, которых имел в шести экземплярах.
И так бы стрелой всё летел я к победе над двумя здоровенными сильными и опытными в выкапывании картошки мужиками. Совсем близка была и халва чемпионская и лимонад любимый. Но только вот через очередные пять рядков сквозь хлюпанье в кедах и собственное дыхание, похожее на то тяжкое, с которым я заканчивал забег на восемьсот метров в соревнованиях, услышал я ужасные крики, стоны и звуки падения на сыру землю двух тяжелых крупных тел.
Я обернулся и меня прихватили то ли столбняк с оторопью, то ли жуть с кошмаром. Меж невскопанных кустов, в пыли, прикрытые с боков отжившими свой срок сухими ветвями картофельных кустов, лежали в смертных позах здоровенные тела моих близких родственников и соперников по социалистическому соревнованию, померших от истощения сил прямо на бегу. Они отстали от меня метров на десять, но мечтали догнать, перенапряглись и сердца их разорвались на бегу. Лопаты их валялись впереди тел. Видимо, из последних сил они попытались копнуть хоть ещё один кустик. Но злая судьба шанс догнать меня у них отняла. В оцепенении я просидел на земле не помню сколько времени. Рот, чтобы закричать или зарыдать, не открывался. Руки и ноги онемели, а выражение страшного испуга и вины скрутило моё лицо в маленький, пылающий горем комок искаженной ужасом плоти.
Наконец оторопь слегка ослабила хватку и я увидел маму и бабушку, сидящих на корточках возле своих тазиков с картошкой, которую они потом ссыпали в мешки. Мама улыбалась, а бабушка, та просто смеялась навзрыд. Это было страшно и больно. Так радоваться трагической гибели своих родных и близких – это просто несмываемый позор, отвратительное, мерзкое зрелище.
– Чего ж вы ржете, бессовестные вы люди!? – спросил я, давясь внезапными бурными слёзами.– Я же угробил до смерти отца родного и брата его.
– Так ты теперь наш кормилец! – мама никак не могла стереть с лица веселую улыбку. – И силы у тебя на троих! Ты быстрее их, стариков, расторопнее.
Будешь нас содержать, как мужчине положено. А они своё отработали и толку с них всё равно никакого уже. Сам видел. Да мы с ними с голоду вспухнем. Видишь, они даже картошку не могут из земли готовую добыть. Мальчик может, а они уже не годные и нам ненужные.
– И правильно сделали, что померли! – хохотала бабушка.– Нам тебя одного хватит. Вместо отца пойдешь в редакцию работать, а вместо Шурика – электриком на горно-обогатительный комбинат. Докопаешь всё, что сам не успел и они не сдюжили. Потом Василий приедет, мешки закинешь в кузов. Дома разгрузишь. В сарайку отнесешь. А пока перерыв сделай. Пойди вон подсолнухи оборви. Шляпки в тазик, потом в мешок. Я огурцы с помидорами соберу. Мама капусту срежет. А хоронить их пока не будем. Некогда. Урожай надо собрать. Нехай тут и лежат пока. Завтра приедем, заберем, если кто-нибудь раньше не приберет. Мужики-то видные! Ну, пошли потихоньку подсолнухи драть, да огурцы с помидорами. А ты, Анюта, давай, капусту срезай. Ножик в сумке моей.
Я был в таком ужасном состоянии, что уши мои не смогли пропустить в голову бабушкины и мамины веселые речи. Я их просто не уловил. Все их присказки пролетели мимо.
Глотая слёзы и наматывая сопли на кулак я, как древний дед, пошкандыбал согнувшись, почти ничего не видя из-за пота в глазах и льющихся как из бутылки слёз. Но не к огромным двухметровым подсолнухам с серыми, любимыми нашими семечками побрёл-пошкандыбал. А к бездыханным телам погубленных мной родных и близких. Метра за три до тела батиного присел и почти подполз к нему, содрогаясь от страха перед покойником и безмерной любви к нему. Подполз, обнял его и голову положил на широкую грудь отцовскую, заливая её слезами.
И вот тут я оторопел и обомлел во второй раз пуще прежнего. Жуть и мистическое оцепенение приклеили меня к телу. Потому что оно вдруг затряслось как машина на очень плохой дороге, задрожало, издавая странные звуки. А похожи были они на воздух, со свистом и шипением вылетающий из проколотой шины грузовика. Трясло меня на отцовском теле сильно, но не долго. Тело внезапно сделало акробатическое движение и восстало с весёлым грохочущим хохотом, унося меня, приклеенного объятьями своими, вверх. Через плечо батино видно было, что и Шурик воскрес. Подпрыгнул и к нам подскочил в два прыжка. Они оба подхватили меня под спину и бросили вверх, Поймали и снова подбросили раз пять. Пока я летал, они посылали мне вслед громкие похвалы и поздравления.
– Ура победителю! Настоящий мужчина! С боевым крещением, Славка!
Потом аккуратно поставили меня на твердь и стали по очереди жать мне руку, которой я трудился на меже.
– Как это?! – закричал я и поднял глаза, полные слез радости. Через них видеть было трудновато. Пришлось стереть слёзы ладонью. – Елки-палки! Живые все! А я-то подумал…
Тут уже стали смеяться все до одного, включая меня. Правда, я оказался единственным, кто почти истерически хохотал сквозь слёзы радости.
– Да это они, дураки здоровые, разыграть тебя вздумали, сынок, – мама подошла и стала целовать меня и гладить по растрепанной и мокрой от пота бывшей прическе.
– Ты же их опередил вон на сколько! – сказала бабушка. – Потому не обижайся. Это у них шутки такие дурацкие. Да ну их к лихоманкам, родимцев стогнидных! Пойдем покушаем да доделаем всё. Василий через три часа приедет уже.
– Загнал ты нас, пацан! – Шурик похлопал меня по плечу. – Мы, правда, чуть не померли, пока тебя догоняли. Молодец! Будет мужик из тебя!
– Халву ты честно заработал. И лимонад, – тоже примирительно похлопал меня по другому плечу батя. – Не обижайся.
– Да ну! – обрадовался я тому, что все живы.– Что ж я, юмора не понимаю, что ли?!
И мы стали весело есть, пить и думать о том, сколько ещё времени уйдет, чтобы убрать всё. От начала поля до середины его стояли на меже девять мешков картошки, уже завязанных джутом.
– А ведь мешков пятнадцать получится, Борька. – Шурик приобнял отца и с удовольствием потянулся. – Ну что, пошли добьём дело-то! А ты, Славка, не торопись больше. Соревнование ты натурально выиграл. Халву с лимонадом заработал честно. Иди, спокойно копай дальше.
И я пошел туда, где колом торчала сиротливая моя, острая как бритва лопата. Я копал и не оглядывался. Потому и не видел того, чего мне и не надо было видеть. Это мне бабушка потом рассказала, что от самого начала моей делянки пошел отец со своей лопатой и выкапывал с боков ямок, которых я нарыл сотни, картошку, которая осталась в земле. Сильно спешил я. Выиграть хотел. Отец после меня набрал два мешка. Но мне об этом никто не сказал. Только бабушка. И то – через неделю.
Пробежали ещё часа два, и мы закончили. Поставили ровно шестнадцать мешков картошки. Два – огурцов. Два – помидоров. И четыре мешка капусты.
Про подсолнухи и кукурузу вообще промолчу. На три семьи хватило бы.
А вскоре приехал долгожданный дядя Вася. Втроём они быстро закидали мешки в машину. Поставили их там ровненько. Я, отец и Шурик сели рядом с мешками в кузов, женщины – в кабину. И мы поехали домой.
– Добренько взяли с поля, а, Борис!? – не то спросил, не то подтвердил Шурик.
– Отлично взяли! – увесисто оценил результат батя. – И без этого урожая по миру не пошли бы. А с ним теперь всю зиму не жизнь будет, а малина.
Я трясся, ударяясь легонько об мешок, вертел головой, разглядывая вечернее сентябрьское небо, красное там, где был закат. И темно-синее над головой. Мне было легко и хорошо. Душа моя пела что-то приятное. Что-то о любви к своим, к хорошей жизни и хорошему, нужному, настоящему мужскому делу, которому меня сегодня научили. И я был в очередной раз в своей разгоняющейся к юности жизни рад ей и счастлив.
Глава двадцать четвертая.
На въезде в город, уже после моста, перепрыгивающего каждый день наш Тобол на высоте тридцати метров, стряслось с нами настолько необычное для Кустаная событие, что после того, как всё утряслось и мы снова собрались ехать домой, дядя Вася сначала три раза обошел машину вокруг и при этом непрерывно крестился, посылая взгляд в бесконечное небо. Он был самым загадочным верующим во Владимировке. Потому как верил исключительно под настроение. Нападали на него любовь к Господу и безграничное к нему доверие в основном с похмелья. Он так болел всем нутром от перепитого, что молился нетвёрдой рукой, милости Божьей заикаясь просил и клялся в своей истовой и глубочайшей вере в него.
Не знаю, может, в это время Всевышний был как раз ничем не занят и дядины мольбы мимо ушей не пропускал. Через пять-шесть часов похмелье он с него снимал и превращал в нормального. Который ещё день-другой по инерции крестился, а потом забывал напрочь.
А бабушка Стюра мне говорила, что Господь любит всех. Не только похмельного дядю Васю. Всех жалеет и всем помогает. Я, конечно, возражал, как мог. За что ему любить фашистов, воров, убийц, злых, жадных и завистливых придурков? Что с Богом в эти моменты случается? Путает, что ли, по старости всех, кого создал? Или считает, что плохие они только по неправильным меркам других людей? А по большому, глобальному счёту Господнему и сволочь всякая – не хуже остальных. А, может, и лучше. Потому как, у Господа из-под рук и уст святейших ничего плохого и негодного выйти не может в принципе.
Так вот крестился сейчас дядя мой, похоже, от неожиданности события. Более, кстати, редкого, чем падение метеорита к нему во двор. Наверное, он решил, что от постоянной езды на машине сильно устаёт ум и рождает галлюцинации. Но мы-то, сидевшие в кузове и кабине, ум вообще не напрягали, и нам ничего не могло почудиться.
Мы все, действительно, видели сейчас живого милиционера, работника ГАИ. У него даже синий мотоцикл был с коляской, перечеркнутой вдоль по борту красной полосой. А на полосе русским языком без ошибок написали слово «Госавтоинспекция». Милиционер стоял на обочине и ждал нарушителя. А их всегда было много, потому, что гаишников, как подозревали все водители, в Кустанае было всего два. Причем, один руководил и не выходил из кабинета. А другого раз в год видел кто-нибудь из нормальных, здоровых на голову шоферов. Поэтому призраком его не считали, многие даже мечтали с ним встретиться, но большинству до конца трудовой шоферской деятельности не везло. А вот нам пофартило просто сказочно!
Милиционер издалека засвистел в булькающий свисток, который висел на цепочке как православный крест. А потом, как рассказывал вечером за картофельным ужином дядя Вася, он вынул из-за спины страшно длинный черно-белый жезл и ткнул им в то место, куда мы должны были причалить.
Он встал на подножку и заглянул в кузов. В нём кроме мешков, но очень на них похожие, сидели два мужика и подросток.
– Для перевозки людей в кузове всё оборудовано? – гаишник снял фуражку и протянул шею с головой почти в середину кузова.
– А как же! – услышали мы уверенный отклик дяди Васи. – В настоящее время посадочные места придавлены мешками.
– Ну, это другое дело, – успокоился милиционер. Погладил на левом погоне три лычки и вернул фуражку на место. – А женщин в кабине две?
– Так точно! – отдал рапорт шофёр и пересчитал, загибая пальцы: – раз, два.
– Рулению не мешают, переключению коробки передач? – заинтересовался сержант очень профессионально.
– Никак нет! – вскрикнул убедительно дядя мой умный. Они прижимаются друг к дружке и к двери так, что от руля на полметра сидят. И от коробки.
– Вот это правильно! – сержант отдал честь и собрался было уйти, но вспомнил, что не задал главный вопрос. – Автомобиль у Вас в исправном состоянии? Сигнал работает? Фонари горят? Тормоза тормозят? А водку сегодня пили?
– Да! – воскликнул дядя Вася радостно. – Сигнал, фонари, запасное колесо – всё как часы работает. Водку пил вчера. И завтра буду после работы. На работе не употребляю. Не смею вас подводить и нарушать правила движения по дорогам.
– Ну, – с облегчением выдохнул сержант, – тогда езжайте и впредь всегда соблюдайте!
– А как же! – снова воскликнул дядя Вася. – Я вас не подведу. Трудитесь спокойно. Я всё держу под контролем и в установленной исправности.
Милиционер ещё раз отдал честь, щелкнул каблуками, развернулся и пошел к мотоциклу читать газету до следующей машины, которых в это вечернее время было меньше, чем лычек у него на погонах.
Вот после этого дядя мой стал ходить вокруг машины, креститься и поглядывать в сторону мотоцикла с гаишником, который разворачивал газету. Потом он поднялся на подножку, открыл дверь и заглянул в кузов.
– Вы тоже милиционера видели? – тихо спросил он и оглянулся.
– Ну да, – прошептал Шурик. – Он ещё спросил, не боимся ли мы с пьяным в стельку шофером ехать? Борис сказал, что ты в пьяном состоянии лучше ездишь. Реакция лучше и обзор дороги.
– Да вы чё, мужики, охренели в край? Я ж тверёзый как младенец в люльке! – он громко дыхнул издалека луком, яйцом и хлебным квасом.
– А мы ему так и сказали, – Шурик посерьёзнел.– Мы, сержант, охренели, пока копали шестнадцать мешков. И по литру врезали. Пацан поллитру только принял. Возрастной ценз соблюдаем. А шофер терпит. Бутылку открыл уже. Нюхает, но не глотает. Скоро дома врежет.
– Значит не показалось, – дядя Вася с облегчением плюнул в сторону, закурил, нырнул в кабину и скоро мы уже таскали мешки в сарай. А женщины отсыпали из мешка чуть ли не половину и пошли в сени картошку скоблить. Молодую картошку у нас никто никогда не обрезал длинной полоской кожуры. Потому что прелесть молодой картошки была именно в нежной, прозрачной почти пленке. Её слегка соскабливали, но не целиком. Чтобы полностью насладиться всем ароматом нового урожая. Все приступили суетиться и сновать повсюду. Быстро и с пользой для дела. И соседи по дому тоже. Столы выносили, стулья, скамейки. На столы кидали праздничные скатерти, расставляли хорошую посуду, рюмки, бутылки, соленья, стаканы для детей под квас. Батя вынес баян и поставил его рядом со стулом, где определился сидеть.
Бабушка, мама, тётя Оля и Татьяна Молчунова из второй подвальной квартиры пошли жарить картошку в печи русской на трёх противнях у тёти Оли.
Ритуал угощения соседей и родственников увесистой порцией привезённого с поля урожая был незыблем как таблица умножения и всегда широк размахом. Готовили и для тех, кто будет за столом, и для ближайших соседей из других домов, которым бегом относили горячую картошку на подносах, хлеб и бутылку водки. Праздник урожая был третьим по значимости. Первый – день рождения. Потом Новый год. Остальные тоже праздновали, но без того натурально осязаемого эпохального значения, которое могло быть только в день собственного старения на год, в день отсчета новой счастливой жизни с первого января, и в праздник свежего урожая – кормильца и хранителя веры в землю родимую, дарящую пропитание. А значит и дальнейшую жизнь.
Пока наши дворовые мужчины метали жареную с чесноком, луком, душистым перцем и шкварками сала хрустящую картошку, покрытую розовой корочкой, покуда под это увлекательное занятие крепко злоупотребляли они «московской» в сопровождении квашеной капусты и солёных огурцов из бабушкиного погреба, остальные не сидели сиднем. Мы, подростки-соседи и женщины разносили по окрестным дворам всё то, что ели мужики, но в сокращенном виде, объявляя, что глава семьи Малозёмовых просит их разделить с семьёй уважение к новому хорошему урожаю. Все нас благодарили, желали нашей семье ещё более богатого урожая и на следующий год. А сами давали нам конфеты шоколадные и карамельки, печенье, лимонад и литровые баночки томатного и яблочного сока. У кого что было.
Дары относились на большой стол. Женщины имели силу воли и ничего из подаренного не трогали. У нас, пацанов и девчонок, силы этой пока не накопилось столько, чтобы не слопать конфетку-другую, загрызая их печеньем или пряником. Потом за стол сели и женщины. Все, кроме бабы Стюры и тети Оли. Они продолжали заряжать русскую печь противнями с картошкой, поскольку ожидалось ещё прибытие бабушкиной сестры тёти Панны с мужем и сыном Генкой. Нас, мелкоты, набралось из трёх дворов человек десять, да ещё мои лучшие друзья – Нос, Жердь и Жук должны были объявиться в любое мгновение. А ещё ждали семью Васнецовых из Затоболовки, тоже наших родственников, и Володю, брата отцовского. Среднего. Они позже работу заканчивали, да ещё доехать надо было. Десять километров примерно.
– Чарли! – раздался голос Жердя из подворотни.
– Вот вы чухаетесь! – кричал я, подбегая к калитке. – Все тут? На восемь же договорились. А Жук где?
– Парадную одёжку, видно, гладит, – хмыкнул Нос.
– Ну, вы пока садитесь, лопайте. Сейчас ему позвоню! – Я вспорхнул на крыльцо наше и подошел к стойке, на которой болталась проволока, продетая через маленькую скобу. На конце проволоки висел детский игрушечный колокольчик. Он звенел почти как будильник. Проволока на весу пересекала двор и за забором точно так же была вставлена в скобу над входной дверью дома Жука. Ещё рядом с проволокой мы натянули толстую шелковую нитку. В середине двух половинок от старой картонной банки из-под пудры прокололи дырочки, вставили в них нитку и к ней привязали спичку. Если эту конструкцию натянуть и говорить в одну половину коробки, то она выполняла роль мембраны. Если Жук натягивал у себя свою половину, то по нитке голос мой добирался до его уха, когда он вставлял его в бывшую пудреницу. Это был безотказный телефонный аппарат. Я его нашел в журнале «Юный техник». Отец мне этот распрекрасный маленький толстенький журнальчик выписывать стал три года назад. В общем, подергал я колокольчик. Жук отозвался через минуту. У себя во дворе он взял половину пудреницы и аккуратно подергал. Я взял вторую половину, висевшую на гвоздике рядом с колокольчиком и натянул нитку.
– Чего такое? – заверещала моя мембрана узнаваемым голосом Жука.
– Ты чего чешешься? – сказал я в пудреницу.– Стынет картошка! Урожай наш тебе не нравится?
– Конец связи! – сильно задрожала мембрана-пудреница, а через какие-то секунды Жук перепрыгнул через общий наш забор и влился в жующий коллектив.
Батя прихмелел изрядно и баян взял. Начал играть любимый вальс «Амурские волны». Мелодия вальса, тревожная и торжественная, просто вынудила мужиков налить ещё по сто пятьдесят. Они задумчиво выпили, съели слегка остывшую картошку и стали подпевать мелодию без слов. Бабушка принесла нам картошки прямо с противнем и разложила по тарелкам. Мы ели, пили квас и лимонад, мужчины подняли с коляски дядю Мишу безногого, посадили его на стул между собой, пели, пили и немного ели. Если получалось.
– Борька, слышь! – перекрикивая общий стон, который задуман был как песня без слов, прокричал Шурик. – У меня выходной двадцать шестого. Так что ты там на работе своей подгадай. У меня будем копать. Потом через пару дней у Володьки. Васька сказал, что ему владимировские подсобят. Огород-то за двором сразу. Соседи будут копать. А у дяди Миши когда роем картоплю, а, дядь Миш?
– Ну, свою добивайте, – вставила трезвую реплику тётя Оля. – Потом ещё Валерка наш приедет и я вам дня за три вперед скажу.
– О! – восхитился Шурик. – Ценю женскую точность и благоразумие.
Расходились мы все кто когда. Нос и Жердь первыми ушли, потом нижние соседи, сытые и опьяневшие, с трудом унесли тела свои на ватных ногах. Мама, и семья тёти Панны пошли наверх. А бабушка – к тёте Оле. Разбежались наевшиеся и по-разному опьяневшие все. Только Шурик, отец, дядя Вася и Михалыч долго ещё не двигались с места, наслаждались поводом для такой тесной и плодотворной встречи за почти круглым столом.
– Давай, Борюня, теперь полонез этого, ну… – дядя Миша долго щёлкал пальцами возле головы.
– Огиньского, – подсказал Шурик и положил голову на руку, а руку на стол.
Мы с Жуком вышли за ворота с шестью бутылками лимонада на двоих в пузе и с двумя килограммами всякой еды там же. Тоже на двоих.
– Надо бы по сортирам, да спать двигаться, – предложил Жук.
– Дело говоришь! – Я пожал Жуку руку и он побежал домой в обход, не через забор. Видно, крепко нагрузился, лезть на забор тяжеловато стало.
А я пошел спать. Устал. Только сейчас почувствовал. Зашел в комнату, гляжу: кровать моя разобрана, подготовлена. Даже подушки взбиты.
– Вот когда успела? – подумал я то ли про бабу Стюру, а, может, про маму.
Разделся, лег и сквозь дремоту, звуки отцовского баяна и потусторонние голоса поющих, как им казалось, мужиков, увидел себя, несущегося по полю с лопатой наперевес. А вокруг картошка, картошка, картошка… Я вырубился незаметно, но моментально. Даже спокойной ночи себе не успел пожелать.
Но вспомнил об этом упущении только утром. Слез с кровати и начал делать зарядку вместе с дядькой из громкоговорителя и с его расстроенным фортепиано. Болели все мышцы. Даже почему-то правая пятка. Но я гнулся, крутился и всё потихонечку пропало. И боль в мышцах, и воспоминание о том, как было трудно выполнять чисто мужскую работу по полной программе.