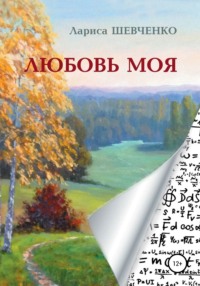полная версия
полная версияНадежда
– Я думала, что надо всегда говорить правду.
– Чудная ты. Не обижайся. Ты вроде бы на луне жила до школы. Прежде чем говорить, всегда думай.
– Я не собиралась ее обижать, а спросила потому, что хотела точно знать, как это слово пишется.
– И все-таки зря ты обидела учительницу. Может, она вчера была усталая и нечаянно ошиблась, а ты ее перед всем классом выставила неграмотной. К тому же ты сама могла на доске не разглядеть букву.
– Я разглядела, даже на промокашке это слово записала и вопрос поставила, чтобы не забыть спросить!
– Все равно надо быть добрее. У взрослых это называется быть снисходительным. Ну, вроде как понять человека, посочувствовать, поставить себя на его место. Так меня учила мама, когда я ходила в садик.
– Я так делаю с людьми, которых люблю.
– А учительницу ты не любишь?
– Нет, я к ней просто так отношусь.
– Как это?
– Ну, никак.
– Она тебя учит, старается, а ты к ней «никак», без уважения?
– Я не люблю ее.
– А кто тебя любить заставляет? Весь мир нельзя любить. Надо хорошо относиться ко всем.
– Почему она не поняла меня, когда я от страха не смогла читать?
– Она не Бог и не Ленин. Учитель тоже может ошибаться. Тем более что ты невоспитанная.
– Значит воспитанный – нечестный? Я ее должна понять, а она меня нет?
– Уважай ее за то, что она старше, умней, много пережила.
– Ладно, подумаю. Раньше я считала, что взрослые должны понимать и жалеть детей, а оказывается, наоборот. Странно все это. И все-таки учительница не должна быть злюкой! – сопротивлялась я.
– Все должны стараться понимать и жалеть друг друга. А ты все о себе, да о себе. Это эгоизм называется. Папа говорил, что наша Юля такая, потому что мы ее забаловали.
– Но ведь Юле всего два года? Когда же она успела сделаться плохой?
– Плохими становятся быстро, хорошими – долго.
– А я плохая?
– Нет, ты хорошая, только «не от мира сего». Ты как будто на хуторе жила, вдали от людей. Я сначала тоже думала, что ты немного «с приветом», а потом поняла, что тебя так воспитали.
– Успокоила, – сказала я, с сердитой усмешкой.
– Не злись. Лучше я тебе правду скажу, чем над тобой будут за спиной потешаться.
Я заревела. Валя заволновалась.
– Мне надо побыть одной, – попросила я.
– Правда? Тогда я схожу в магазин, а потом вместе сделаем уроки. Ладно? – торопливо предложила подруга.
– Ладно, – согласилась я, давая волю слезам.
«Почему я глупая? И чего жизнь такая сложная и плохая?» – думала я, засыпая.
Пришла Валя.
– Пора учить уроки. Мне еще Юлю из яслей забирать и прибирать комнату.
– Можно, я помогу тебе? Пол вымою.
– А ты умеешь?
– Конечно.
– Я только подметаю.
– Разреши, пожалуйста.
– Неприлично тебе мыть пол в моей квартире.
– Опять, эти дурацкие правила! Я же хочу сделать тебе приятное.
– Давай вместе мыть. Вот мама удивится!
– Давай! – обрадовалась я.
И мы весело взялись за дело.
– Валя, что во мне плохого? – задала я волнующий меня вопрос.
– Ты с взрослыми разговариваешь, как с ровесниками.
– Почему я детям могу все честно говорить, а взрослым – нет?
– Взрослым нельзя делать замечания. Они их болезненно переносят. Мы же понимаем, что не все знаем, поэтому не обижаемся.
– Я про это раньше не думала. Значит, для Натальи Григорьевны я теперь самая гадкая?
– Наверное. Для начальника важнее всего – авторитет.
– Представляешь, недавно поймала меня завучка, когда я по перилам лестницы с пятого этажа спускалась, но я даже не испугалась и говорю: «В старой школе тоже каталась и, слава богу, цела». Учительница опустила глаза, но скрыть удивление и злость не смогла. Я больше ни с кем себя так не веду. А нагрубила ей за то, что мои одноклассницы трясутся от страха на каждом уроке. Еще потому, что она не вызывает меня к доске, пытается доказать всем, что я двоечница. Мстит за мою грубость в первый день. Учительница не должна быть такой…
– Ну, это уж слишком! Так, по-хулигански, даже мальчишки редко себя ведут, – возмутилась Валя.
– Разве я не права? Она сама грубит и в классе гадости говорит.
– Папа объяснял, что взрослые в основном правы. Мы не всегда можем сделать правильный вывод из слов и действий взрослых. Нам не хватает жизненного опыта. А ты пока даже в простых вещах путаешься. Зачем вчера в автобусе на заднем сидении прыгала, ноги к потолку подбрасывала, кричала?
– Мне было весело. А что, нельзя?
– На речке так можно себя вести, в лесу. А в общественном месте неприлично.
– Опять неприлично! Замучили все меня этим словом. Я же человек, а не железка. У меня настроение есть, – вспылила я.
– Раз ты человек, так веди себя по-человечески, а не как дикая коза!
– Но в автобусе меня никто не ругал.
– А зря. Тебя надо чаще осаживать.
– Послушай, а если тебя чужой будет незаслуженно драть за уши?
– Папе пожалуюсь, а он решит, что делать. На то и родители, чтобы учить и защищать детей.
– Но жаловаться нехорошо.
– Родителям надо обо всем рассказывать. Это чужим на чужих нехорошо жаловаться.
– Я привыкла сама за себя думать.
– Вот и подумай, как трудно учительнице учить детей. Хорошо, если ты одна в классе такая особенная. А если бы много?
– С моей первой учительницей было здорово. Как Анна Ивановна нас понимала! А теперь у меня завучка. Разве Наталью Григорьевну уважают? Ее боятся.
– Дети боятся, а взрослые, наверно, уважают.
– За что?
– Не знаю, может, за то, что сумела стать начальницей?
– Я таких завучей из школы гнала бы.
– Не тебе решать, – строго возразила Валя.
– Значит, тот, кто ее назначил, тоже плохой.
– Так уж все и плохие? Ты сама испортила отношения с ней. Никому не груби, и все будет хорошо. Пойми, взрослые должны учить взрослых.
– Сколько себя помню, всегда старалась быть хорошей. Меня даже лучший друг за это занудой называл. А здесь я самая плохая… Из-за Натальи Григорьевны жить не хочется…
– Не надо так… Хочешь, попрошу папу, чтобы он помог тебе перейти в мою школу? – предложила Валя.
– А что я папе Яше скажу?
– Не знаю. Правду, наверное. Он должен понять тебя.
– Валя, а ты обоих родителей одинаково любишь?
– Да.
– А я папу больше.
– Мне папа сказал, что родителей, как Родину, не выбирают и любят, не задумываясь, потому, что они есть. Когда все нормально, я не замечаю их любви. Но всякие, даже маленькие, неприятности заставляют вспоминать родителей. Не представляю жизни без них. А ты себя больше любишь?
– Я себя не люблю.
– Почему?
– Не знаю. Я вообще по-настоящему не могу любить. Все, кто мне дорог, почему-то уходят от меня.
– Я бабушку очень люблю, хотя она умерла, – тихо пробормотала Валя.
– Я чувствую себя рядом с тобой очень глупой.
– Не выдумывай. Раз осознаешь свои ошибки, значит умная.
– Я часто не понимаю взрослых.
– Я тоже раньше всякая была. Один раз бабушка не разрешила мне перед обедом есть варенье, а я сказала, что она плохая и не любит меня.... Не успела извиниться… Хуже всего на свете память о своей горькой вине. Она сильней любой обиды… С тех пор душа болит, как вспомню. Теперь с мамой не позволяю себе грубить.
ЗНАХАРКА
Моя школьная подружка Нина играла около своего дома. Вдруг откуда-то выскочила огромная черная лохматая собака. Нина закричала и припустила к столовой, где работала мама. Но собака догнала ее, повалила и стала рвать пальто. Из подъезда соседнего дома выскочил мужчина и палкой отогнал собаку. Ранки на руках у Нины зажили быстро, но спать одна она теперь не могла. Мама поставила рядом раскладушку и держала дочку ночью за палец. Если, засыпая, она бросала руку, Нина тут же просыпалась и плакала. И на уроках она заливалась слезами непонятно от чего. Лечение успокоительными лекарствами не помогло. Тогда-то и подошла с советом к Нининой маме школьная техничка:
– Вы, конечно, теперь все ученые, но за ради ребенка послушайте меня. Вот – адрес бабушки. Она лечит испуг. Несколько лет назад она мне очень помогла. Училась тогда моя дочка в педагогическом институте. Случилось у нее рожистое воспаление. Все лицо превратилось в рану. Целый месяц лежала в больнице, а потом старенький доктор вызвал меня и попросил, чтобы я нашла бабушку-знахарку. Через три дня лечения у «бабушки» на лице дочки не осталось и следа от болезни.
Тетя Лена долго не решалась воспользоваться адресом. А Нина все худела без сна. У нее начались головокружения. Наконец, тетя Лена не выдержала. Несколько дней она готовила дочь к посещению «бабушки». И, несмотря на это, когда мы вошли в темную часть парка и начали спускаться по крутой лестнице, ведущей к реке, с Ниной приключилась истерика. Мама чуть ли не волоком тащила ее. Около домика «бабушки» Нина замолчала. Мы постучали и вошли.
Перед нами маленькая комната с плитой и кастрюлями. Деревянная лавка у стола. В углу икона, увешанная белыми полотенцами с вышитыми красным крестиком петухами. Маленькая, худенькая старушка в черной юбке, серой блузке и в белом с голубыми цветочками платке, спокойным, тихим голосом спросила:
– Эту девочку будем лечить?
– Да, – также тихо ответила тетя Лена.
Бабушка принесла из другой комнаты табурет для Нины, а мне предложила сесть на лавку. Откуда-то пришел большой серый кот и стал тереться о ноги Нины. Бабушка положила руки на голову моей подружке и что-то зашептала. Наверное, молитву. Потом наклонила зажженную свечу, и парафин стал капать в кружку с водой. При этом бабушка опять что-то произносила. Она проделывала все так, будто возилась по хозяйству – просто, по-деловому, без всякого таинства. Я ни капельки не верила в успех дела и молча сидела в ожидании окончания представления. Бабушка поднесла к лицу тети Лены кружку и сказала:
– Ребенка испугала собака. Видишь фигурку? У вас есть собака?
– На дочку чужая собака напала, – подтвердила тетя Лена, пытаясь разглядеть в бесформенном куске парафина изображение животного.
Тетя Лена положила на стол деньги и собралась уходить. Но бабушка сказала с укором:
– Нельзя деньги брать за божий дар. Грех большой. Если душа твоя беспокоится, то можешь потом принести очень маленький дешевый подарок: ситцевый платочек или что-либо из еды. Домой Нина шла без крика, хотя на улице было темно. К тому же сильный ветер трещал ветвями деревьев и стонал между холмами и низинами парка. Вечером следующего дня Нина подошла к маме и напомнила: «Нам к бабушке надо. Не опоздаем?» В этот раз у бабушки она вела себя как хозяйка. Села на табурет, посадила на колени Пушка и стала рассказывать ему стихи. После лечения Нина в благодарность спела для «доктора» песенку. А бабушка успокоила тетю Лену:
– Ну, раз вы не можете третий раз прийти ко мне домой, то я завтра на вечерней зорьке заочно о ней помолюсь. Конечно, лучше бы прийти еще раз. Но девочка уже здорова. Думаю, все у нее будет хорошо.
Тетя Лена положила на стол ситцевый с голубыми цветочками платочек, низко поклонилась «бабушке» и вышла. Нина, напевая любимую песенку, вприпрыжку бежала домой. Я еле успевала за нею.
ПРОЗРЕНИЕ
Сегодня в коридоре меня остановила библиотекарь: худенькая, неприметная, прохладно вежливая женщина неопределенного возраста с вечно недовольным лицом. Ребята говорили, что она завистливая, потому что ей не повезло в жизни.
– Слышала, что ты читаешь очень хорошо, а почему в библиотеку не записываешься? – спросила Валентина Николаевна строго.
– Не знаю, – безразличным тоном ответила я, намереваясь поскорее убежать на улицу.
– Ты из какого класса?
– Из 2 «А».
– Какие отметки у тебя по чтению?
– Тройки.
– Почему?
– Мне подружка объяснила, что я неправильно веду себя.
– В чем?
– На первом уроке я сказала учительнице, что она злая.
– Какую художественную книжку ты читала недавно?
– Никакую. Перед первым классом прочитала «Тимур и его команда».
– Понравилась?
– Да.
– А что конкретно?
– У ребят жизнь была легкая, как игра. На самом деле такого не бывает. В жизни больше грустного и скучного. Но я грустные книжки тоже люблю.
– Какие, например?
– «Дети подземелья».
– Иди за мной. Запишу тебя.
Получив тоненькую книжку под названием «Слепой музыкант», я бросилась к двери.
– Вернись. Аккуратно положи книжку в портфель. Фамилию писателя запомни. Ясно? Иди, – сказала библиотекарь, провожая меня строгим взглядом.
Квартира была на замке. Я решила почитать на лавочке возле дома.
С первых строчек спокойное повествование поглотило меня, и я отключилась от происходящего вокруг. Читала про себя, но у меня создавалось впечатление, что я нахожусь в мире удивительной музыки. Узнав, что мальчик от рождения слепой, залилась слезами. На меня текли реки его печали и страданий. Музыка в голове нарастала, меняя окраску в зависимости от происходящих событий. А когда молодой паныч заиграл на рояле, и малиновые звуки наполнили меня до краев, я вдруг почувствовала мощный, прилив радости, будто вокруг все озарилось ярким светом. Я вскочила и восторженно, не обращаясь ни к кому, закричала в полный голос:
– Он прозрел, прозрел, прозрел!
Я не заметила, что мой дед давно стоит перед лавочкой, и испуганно наблюдает за мной. Посмотрев обложку книги, он спокойно объяснил:
– Мальчик не видит, как мы, но музыка открыла ему свой яркий, глубокий, прекрасный мир. Многие зрячие не могут ощутить и десятой доли того, что чувствовал этот несчастный. В этом он счастливее тех, кто бездарно, как кроты, проживает свои жизни.
– Нет, нет! Вы не правы. Музыка на него так подействовала, что в голове у него случилось что-то такое, что «включило» ему зрение. Даже мне все вокруг показалось ярче и светлее потому, что я услышала музыку, которую он играл. Меня никто не переубедит! Он на самом деле прозрел!
Я захлебывалась слезами счастья.
Зашли в квартиру.
– Мама Оля, мальчик прозрел, вы понимаете?! – закричала я с порога.
Она глянула на меня недовольно. Я не обиделась и закружила деда. Он улыбался и не сопротивлялся. Немного успокоившись, я легла на свой любимый диван и задумалась. Чудеса совершаются, если очень хотеть и очень стараться. Сколько бедный паныч страдал! Зато теперь он счастливый. И я рада за него. Эта радость совсем не такая, как от конфет или нового платья. Она в сто, тысячу раз больше, сильнее! Это настоящее счастье.
СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК
Иду мимо театра. Читаю афиши. Репертуарный план на месяц обещает оперы, оперетты, водевили. Вдруг подумала: «Может, сходить в театр?» Еле дотянулась до окошка кассы и вежливо спросила: «Можно мне в театр? Сколько стоит билет?» И протянула свои сбережения. Женщина вышла из кабинки, с любопытством посмотрела на меня и спросила:
– Первый раз идешь?
Я кивнула.
– Вот тебе входной пригласительный билет. Беги скорее, уже дали третий звонок. Сядешь на полу, на ступеньках, – сказала добрая тетя и мягко подтолкнула меня к двери.
Я поблагодарила ее и юркнула за малиновую бархатную штору.
В зале полумрак. На ярко освещенной сцене – богато убранная комната. Тишина. Вдруг откуда-то из глубины полилась прекрасная музыка. То нежная, то игривая, то по-сумасшедшему радостная, – она захватила меня полностью. Я находилась под впечатлением новых сложных чувств, удивительных переживаний. Веселый, энергичный Фигаро носился по сцене, и вихри чудных звуков не отставали от него. Моя душа колебалась в такт музыке, прыгала через скамейки, восторженно пела, беря высокие ноты с упоением, раскованно, свободно. Боже, какая прелесть! Какая радость чувствовать красоту, ощущать каждый звук, каждую ноту! От переполнения восторгом меня распирало, как майскую почку сирени. В какой-то момент я испугалась, что могу сорваться со ступенек и помчаться на сцену, поэтому вцепилась обеими руками в ножку кресла, чтобы случайно не опозориться.
Музыка закончилась. Шум аплодисментов. А я никак не могу прийти в себя. Пожилая женщина очень приятной внешности легонько похлопала меня по плечу, подняла за подмышки и, погладив по ладони, спросила:
– Впечатляет?
Я отстраненно смотрела мимо нее и бормотала:
– С ума можно сойти! Как пел! Как управлял моим сердцем! Не представляла, что так здорово бывает от музыки. А Фигаро – это что-то невообразимое! Чудо какое-то!
– Артист Ла-Скала. Единственное выступление, – как-то особенно торжественно произнесла ласковая тетя.
Во дворе нашего дома мне встретились подружки. Старшая девочка спросила:
– Ты что, влюбилась?
– Почему так думаешь? – удивилась я.
– Ты вся странно светишься.
– В театре была. Слушала «Севильского цирюльника».
И утром вместе с ветром за мной неслась удивительная музыка. Она звучала в шорохе шагов, в ветвях деревьев – такая, восхитительная, светлая, легкая!
ДУБОК
Мы выращиваем цветы на окнах класса. Моей подружке Оксане достался хилый, с засохшими, поломанными листьями. Она с таким старанием ухаживала за ним, что уже через два месяца, к концу четверти, цветок зацвел. Сначала на длинной толстой ножке появился бутон. А как-то утром мы зашли в класс и увидели огромный ярко-красный цветок с черными тычинками.
– Он зацвел в благодарность за твою любовь к нему, – сказала вожатая Оксане.
Девочка, смущенная похвалой, покраснела и опустила глаза. После этого события она еще больше стала интересоваться растениями.
Еще весной посадила Оксана дома в цветочный горшок желудь (она собирала их в парке для поделок). К великой ее радости скоро появился росток. С каким восторгом Оксана рассказывала всем о появлении каждого нового листочка. И вот она принесла дубок в класс. Он был настоящим красавцем. Прямой стволик толщиной с карандаш. Три яруса листьев сформировали крону.
Но на следующее утро, придя в школу, мы увидели на полу деревце, вырванное с корнем, растоптанное. Оксана удивленно и растерянно разглядывала остатки варварства.
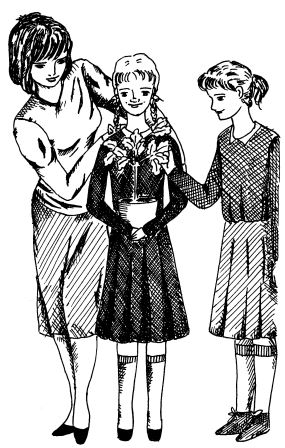
– За что они его? – выдохнула она горестно и заплакала.
После уроков я провожала Оксану домой. У самой квартиры она вновь не выдержала:
– Я так любила его. А теперь он умер…
Я не знала, чем помочь подруге, и тоже заплакала.
ЛИЗА
– Как дела? – остановила меня во дворе Валя.
– Ничего, – ответила я беззаботно.
– Ничего – пустое место, – засмеялась подружка. – С учительницей наладила отношения?
– Не получается. Девчонкам из других вторых классов повезло.
– У меня тоже очень хорошая учительница. На совместном родительском собрании молодые учительницы из других классов стали ругать своих учеников за плохую дисциплину, а наша встала и говорит: «Дети в моем классе умненькие, жизнерадостные. Ну, иногда самолетик по классу пролетит. Случается, что записками перекинутся. Ну, значит, надо было им что-то срочно сообщить друг другу. Ничего тут не поделаешь. Хорошие, нормальные дети. Коллеги, не волнуйтесь. Через несколько лет гордиться своими ребятами будете». Видишь, какая она у нас умная. Мы ее очень любим! А одна молодая мама, увидев, на родительском собрании, что наша учительница седая, сказала своей дочке: «Чему тебя может научить эта выжившая из ума старуха? Только спать на уроках будет». И вот уже месяц Лиза на уроках ничего не делает. Грубит Александре Сергеевне. Нам стыдно за Лизу. Учительница и с душой к ней, и со строгостью, а она ничего не хочет понимать. Недавно «брякнула» на уроке: «Моя мама сказала, что вы старая дура». Учительница даже несколько минут не могла урок вести. Села на стул и не шевелится. Тишина в классе стояла мертвая. Мы перепугались за Александру Сергеевну. Потом родители говорили, что у нее с сердцем было плохо из-за того, что ее очень беспокоит будущее девочки. Лиза никого не уважает, даже маму. У нее нет своего папы, и к ним приходят разные мужчины. Лиза злая на всех, потому что ее никто не любит. Она нарочно делает всем гадости.
– А за что же ее любить? – удивилась я.
– Все мы бываем глупыми. Но всем хочется, чтобы их любили, – грустно возразила Валя. – Лизе нужна хорошая подруга. Жалко ее. Я попробую. Ты умеешь тайны хранить. Так вот, слушай, недавно она мне рассказала, что любит мальчика, а он на нее не обращает внимания. Она просила у меня совета.
– И что ты ей сказала?
– Что она должна стать вообще хорошей, а не только с ним, тогда он захочет с нею дружить.
– А она?
– Сказала, что плевать ей на других. И глаза при этом злые сделались. Мне горько, что не сумела ей ничего объяснить. Видно я плохая подруга.
– Вот видишь, не надо тебе с нею водиться.
– Надо. Кто-то должен ей помочь. Мама говорила, что Лизе нужен хороший отец.
– Александра Сергеевна отказывается ее учить?
– Нет, конечно! А ты попросила папу перевести тебя в мой класс? – вдруг спросила Валя.
– Никак не могу решиться.
– Поскорее решайся. До свидания. Заходи.
И убежала. А я загрустила.
РОКУЭЛЛ КЕНТ
Ко мне пришла в гости племянница соседки тети Веры Олеся с большой папкой для черчения и показала рисунок, который собирается отнести в художественную школу на конкурс, перед тем, как сдавать вступительные экзамены.
– Почему ты домик нарисовала как-то странно, черточками? – удивилась я.
– Это такой способ рисования – графика, – ответила подруга.
Потом она очень осторожно развернула белую бумагу, и передо мной появилась огромная черно-белая лакированная обложка книги, на которой особыми, неровными буквами было написано «Рокуэлл Кент». Олеся не дала мне книгу в руки, а сама листала, стараясь не замять уголки страниц.
– Здорово пишет?! Так говорят о настоящих художниках. А вот графическая работа.
И Олеся открыла передо мной страницу. Я остолбенела. При первом взгляде на картину меня будто током ударило. Сначала не могла сообразить, что поразило меня в этом рисунке. Внешне ничего особенного. Простым карандашом на белом фоне изображена достаточно крупная женщина с приятным, усталым лицом. Она стояла в развалинах на коленях. Олеся хотела перевернуть страницу, но я молча отстранила ее руку. Глядя на лицо, фигуру женщины, отдельные камни, я пыталась понять, что потрясло и удивило в этом, казалось бы, торопливом наброске? Рассмотрение отдельных частей картины ничего не дало. Значит, на меня странно действует вся картина. Несколькими простыми линиями художник изобразил добрую, сильную женщину. В натруженных руках, крупных формах ног, в изгибах губ чувствовались страдание и непосильная тяжесть забот. Почему камни вокруг? Она погорелица? Камни не похожи на пепелище. Они вдруг представились мне разбитой судьбой, несбывшейся мечтой. Взгляд упал на мелкие буквы под картиной: «Измученная войной Европа».
– Кто такая Европа? – спросила я у Олеси.
– Это часть материка. Мы тоже в Европе живем.
Значит, усталая женщина – это измученная войной страна?! …И поплыло из глубины памяти:
Славная осень, морозные ночи,
Ясные тихие дни…
Здорово и просто! И здесь только тонкие карандашные линии. А передо мной – трагедия всей Европы.
Олесе надоело ждать. Она нетерпеливо отвела мою руку, желая показать то, что ей понравилось в картинах. Но я была уже переполнена эмоциями.
– Гений… Он как Некрасов… Гений… – шептала я.
Мне надо было остаться одной, чтобы не потерять радостное ощущение понимания.
Потом еще много дней я пребывала под впечатлением этой картины. Я просыпалась – она стояла перед глазами, бежала на уроки, а глаза измученной женщины смотрели на меня и просили: «Помоги». Я помнила каждую черточку на рисунке и чувствовала, что если уберу какой-нибудь камень, или как-то иначе наклоню плечо женщины – рисунок потеряет что-то важное. В картине не было ярко выраженного внешнего трагизма. Он находился внутри нее, как и внутри меня.
ЛЕРМОНТОВ
Что-то долго нет Оли. От скуки перебираю книги деда. Ничего детского. Вдруг на последней полке под справочниками по медицине обнаружила старую, пожелтевшую книжку. Точнее то, что осталось от нее. Полистала. На картинках бравые усатые офицеры, красивые женщины в старинных нарядах. Добралась до первого заголовка: незнакомое слово «Тамань». Прочитала несколько строчек и уже не могла оторваться. Спокойные, складные, как в стихах, слова текли неторопливо. Мне немного грустно от них. Но грусть легкая, не рвет сердце, а проникает глубоко.
Лежу на диване и размышляю. Странная книга. Мне просто приятно ее читать, наполняясь музыкой слов. Не важны лица героев. События интересны, но они – не главное.
Моя Лиля из городского детдома любила по воскресеньям слушать по радио сказки. Она считала, что возвращается в раннее детство, потому что в войну не читала книжек. Может, и так. У меня по-другому. Мне сказки нравятся из-за того, что я слышу в них мелодию. При этом я переполняюсь такими же приятными ощущениями, какие были от музыки, возникавшей в моей голове еще до школы.