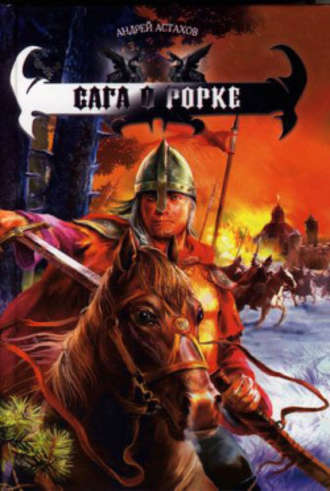
Полная версия
Сага о Рорке

Андрей Астахов
Сага о Рорке
Если древние воины были способны на это, то почему мы не можем быть способными? Люди остались теми же.
Хагакурэ БусидоПролог
Луг был ярким, цветущим, весенним и каким-то золотистым. Над сплошным ковром одуванчиков вставали более высокие травы и цветы, иные выше мальчика лет пяти, игравшего на лугу. Дальше был край леса, густого и древнего, сырого и темного, но здесь было солнце – много яркого животворящего солнца. Пресветлый Ярила царил в небе, щедро даря миру свое тепло. Так что луг был залит ярким золотым сиянием.
Мальчик, задрав лицо, сквозь прищуренные глаза смотрел на солнце. Бегать он не мог – залатанная рубаха из домотканого холста была слишком длинная ему, и он падал, спотыкаясь о подол, всякий раз, когда пытался побежать. В длинных мягких волосах, белых, как чесаный лен, укрылись травинки, нос был желтоватым от пыльцы. Какие-то цветы нависли над ним – странные, бледно-желтые и фиолетовые, со странным запахом. Мальчик взмахнул палкой. Ударил по стеблям. И поднялся ветер, будто от взмаха его палки.
– Вой[1] есмь, – сказал мальчик, глядя на солнце.
Глаза у него будто впитали солнечное золото. Таким бывает удивительный камень, который выбрасывают волны на берег Варяжского моря. У антов такие глаза редкость. Впрочем, мальчик об этом еще не знал.
– Рорк, иди домой! – пронеслось над лугом. – Сыночек, домой!
Мальчик обернулся. Мать в мужской рубахе и куртке и охотничьих пончохах[2] стояла у края леса, опираясь на рогатину. Рядом стоял рослый муж лет сорока пяти с окладистой бородой, одетый землепашцем – но держался он, как воин.
– Смотри, Мирослава, растет твой богатырь, – сказал мужчина. – Пятый годок ему пошел. Как думаешь дальше жить-то?
– Как жили, так и будем, – ответила женщина. – Лес нас укроет.
– Делево от людей скрыться. Не приведи боги, жонки-грибницы заметят тебя или мальца, или ахоха[3] какой на сруб ваш в лесу наткнется.
– Идти нам некуда, отец, – синие глаза Мирославы подернулись холодом. – Может, зараз хазарам в ясырь продаться?
– Джуда-хан со мной говорил, – после паузы сказал мужчина. – Гонца прислал, руки твоей просил. Сказал, с сыном возьмет.
– Хазарину веры нет, – Мирослава мотнула головой. – Сладкими речами блазнит, но обманет. Рабыней своей, подстилкой сделает для утех, неино[4] торговцам рабами продаст за пару гривен. Пошто, отец, Турну запретил к нам ходить?
– Световид прознал о том, что варяжин к тебе ходит, – вздохнул князь. – Говорит, прознают другие про Турна, скрывать вас больше не получится. Турн муж честный, но как все честные глуп. Наведет на ваш след кого не надо.
– Боишься? – Мирослава сверкнула глазками. – Волхвов боишься? А ведь ты князь. Внук твой в лесу растет, аки зверь дивий.[5] Зайцев и тетеревов руками ловит, следы зверя по запаху находит.
– Жаль мне его, но через волхвов сказано было, проклятие на муже твоем и на сыне вашем. Не я то сказал – Световид. Он на потрохах звериных гадал. Многая кровь через сына твоего прольется. Ждать надо.
– Пять лет жду. – Мирослава отбросила с лица тяжелые русые волосы. – Сама, будто нежить лесная, от людей отвыкла.
– Нет в том греха твоего, Мирослава. Мой это грех, моя вина. Я вас скрываю здесь, будто не дети вы мои, а нечисть, человечину ядущая. Помыслил я, может, вам в Варяжию отправиться? Рорк ведь по отцу урман. И Турна с вами пошлю, пусть мальцу пестуном будет.
– Родина Рорка здесь, отец. Ант он, твоего народа и твоей крови. Нечего земли его лишать. Мне ведь тоже видение было…
– Видение?
– Знаю я, что сын мой первым среди антов станет. Придет день. Он народу своему поможет крепко… ты не бойся, отец. В Лес Дедичей люди не ходят, зачарованное это место, богам и духам посвященное. Волхвы же поклялись и Сварогом, и прочими богами роту свою соблюсти. А я… я сына взращу воином. Проклят он? И пускай. Мне он милее всех, моя кровь, мое утешение.
– Он внук мой, – с неожиданной теплотой сказал бородач. – И я о нем пекусь, и у меня душа о нем болит. Но анты его не примут. Вера наша его отвергла. Страшная печать на нем, однако нельзя заставлять его страдать. У хазар или у варягов до него дела никому не будет. Станет он тайдуном[6] хазарским. Или ярлом варяжским. Или не прав я, доня?
– Он и есть ярл варяжский. А тайдуном ему не быть. Не буду я хазарской наложницей.
– Ладно, – вздохнул князь, провел ладонью по бороде. – Я там… привез вам немного. Мучицы, яблок моченых, холста. Что надо, скажи.
– Наконечники для стрел, – не раздумывая, ответила Мирослава. – Научу сына из лука стрелять.
– Добро, дочка. Добро…
Мальчик разговора не слышал. Он смотрел вдаль, туда, где за лесом на пологих холмах высились бревенчатые стены большой крепости. Мальчику давно хотелось там побывать, но мать почему-то ни разу его не водила. Мальчик не задумывался, почему – у него хватало других игрушек.
Далекий раскат грома заставил всех посмотреть на небо. Туча с запада медленно приближалась к солнцу.
– Рорк, домой! – позвала Мирослава.
Мальчик припустился было бегом, споткнулся, растянулся на траве. От боли и неожиданности он заплакал, но мать уже была рядом. И Рорк успокоился. Рядом с мамой он не боялся ничего, даже этого странного бородатого человека, стоявшего поодаль и наблюдавшего за ними.
Ярила на небе вступил в полдень. Наблюдавший за внуком Рогволод, князь северных антов, улыбнулся в бороду, и Мирослава заметила эту улыбку.
– Пора тебе, отец, – сказала она и добавила с любовью: – Добродий[7] ты наш…
Рогволод поднял и прижал к груди внука, поцеловал дочь и рассеянно направился к своему мерену, привязанному у края леса. Он чувствовал, что дочь и внук смотрят ему в спину. Хотелось вернуться, но душу точил смутный страх, как бы кто из дружины не вздумал отправиться следом за своим князем – и тайна, которую князь хранил уже пять лет, раскрылась бы.
Тайна, которую звали Рорк.
Мальчик, которого уже пять лет считали похищенным хазарами.
Ребенок, которого волхвы антов объявили проклятым.
Часть 1
Волчонок
Дома в собачьей шкуре, из дома – в тигровой шкуре.
Сакино ЯмамотоI
Был тот неуловимый призрачный час, когда ночь начинает уходить, сменяясь зарей, и за красным окном княжеского терема стало сереть, словно ветер, подувший с большого холодного озера перед рассветом, разогнал мрак, царивший над землями северных антов с полуночи. Свеча передавала мир Яриле. Однако кур[8] еще не пропел, и Зло вошло в ночь неслышно и незаметно.
Таинственная черная птица появилась внезапно, мелькнула неуловимой тенью за слюдяными окнами и опустилась сгустком мрака на охлупень княжеского дома. Ее тоскливый загробный крик наполнил холодом сердце старого Рогволода. Вещая злая птица, словно издеваясь над немощью князя, крикнула еще, и еще, и еще.
Князь собрал все силы, приподнялся на локте. Долгая хворь источила его, будто злой червь могучее дерево, обескровила, и даже чувства, казалось, начали изменять Рогволоду. Он оказался на грани сна и яви, в том сером призрачном мире, из которого и прилетела к нему зловещая птица. Мрак перед взором князя сгущался, багровел, клубился влажным зловонным паром, совсем как тот мертвящий туман, который в лихие годы наплывал на земли антов с Навьих Низин, принося на своих белесых призрачных крыльях черную немочь. Снова заголосила черная птица, и Рогволод ясно услышал тихий, рвущий душу плач – где-то далеко словенская женщина голосила над покойником.
Клубящийся туман окрасился пурпуром, разорвался языками пламени. Будто стена рухнула перед взором князя. Без умолку голосила злобная птица, творя желю[9] над головой князя антов, и громы сотрясали почерневшее небо, осыпая на землю звезды. Изломанные исковерканные тени на черных крыльях проносились в стороны, вверх и вниз, вопя и заводя к небу перекошенные от боли и ужаса лица, белые, с черными провалами глаз и рта. Обгорелые руины засветились среди снегов, воздух наполнился пеплом, трупным смрадом и предсмертным ржанием изувеченных в бою лошадей. Рогволод увидел себя на незнакомой равнине, и вкруг него пылали семь погребальных костров. Семь черных теней закачались над равниной, семь всадников показались в багровом сумраке, наполненном удушливым дымом.
Впереди – витязь на отличном соловом коне под шелковым чепраком, со львом на щите. Глаза его углями, как у навии,[10] горели в щелях забрала. Следом явился всадник в серых доспехах, с волком на щите и на чалом коне, грозя князю длинным ратовищем. За ним ехал рыцарь на гнедом коне, в доспехах, отделанных кроваво-алой эмалью, с огромным мечом, с ведмедном[11] за плечами. Четвертый воин с черным грифом на щите, но в белом вооружении и на белом коне, лениво приближался справа, а слева надвигался всадник в серебряных латах и на крапчатом коне – на его щите злобно скалилась рысь. Оглянулся в отчаянье Рогволод, но увидел шестого воина, блистающего золотом и с огнедышащей саламандрой на щите, и каурый конь под ним был невиданной красоты.
Седьмой же воин, черный, как ночь, с крыльями ворона на шлеме, на вороном жеребце, убранном блистающими алмазными нитями, замкнул это смертельное кольцо.
Стоял Рогволод и смотрел на невиданных всадников, ощущая нечеловеческую их силу, их природу, противную человеческой, ибо не люди были перед ним, а существа, которым и названия не было. А потом появился их хозяин, и уже не птица – сама земля закричала под лапами. Громадный черный волк вошел в кольцо всадников, выйдя из огненного мрака, приблизился к Рогволоду, и не было в глазах зверя ничего, кроме адской злобы. Поступь зверя выжимала кровь из земли, дыхание опаляло, рассыпаясь синими искрами, удушая смрадом смерти. Напрасно князь старался убежать: тело его стало непослушным, ноги приросли к земле, смертная немощь сковала беспомощную плоть, и тогда протяжно закричал несчастный Рогволод, призывая на помощь.
Отозвалась птица скорби, заржали кони, завыл утробно зверь и захохотали навии, обступившие князя. Тогда князь приготовился умереть. Но только ошибся Рогволод, не успел зверь пожрать его. Дивное зрелище увидел он – разметав всадников, в круг пламени ворвался волк белый и схватился с черным, и два чудовища катались по окровавленной и опаленной земле и бились насмерть, а над схваткой кружила зловещая птица скорби, и не птица это была вовсе, а чудовище с телом кошачьим, женской грудью, крыльями нетопыря и мордой столь страшной, что и словами не описать этого образа. Тогда князь, не дожидаясь исхода схватки, обратился в бегство, волоча неподъемное от ужаса тело, раздирая горло в безумном беззвучном крике.
Рогволод открыл глаза. Горница была наполнена серым утренним светом, черные тени залегли по углам, и все предметы казались сотканными из тумана – князь в первые мгновения после пробуждения не узнал свою опочивальню. Сердце Рогволода барахталось в груди, точно насмерть перепуганный зверек, пот заливал чело.
– Ольстин! – позвал он через силу.
Человек, спавший под тулупом на лавке в глубине горницы, не отозвался. Дрожа всем телом, Рогволод поднялся с ложа, держась руками за стены, доковылял до спящего, толкнул в бок. Человек замычал что-то, мутным спросонья взглядом вперился в Рогволода.
– Ты, княже? – прохрипел он.
– Воды, Ольстин, – зашептал князь. – Худо мне…
Ольстин мигом сбросил бараний тулуп, вскочил с лавки, подхватил князя под руку и повел к постели.
– Опять огница на тебя навалилась, княже, – обеспокоенно говорил он, укрывая Рогволода аксамитовым[12] покрывалом, а поверх – одеялом из шкур. – Сейчас принесу воды и бабок кликну.
– Воды, Ольстин…
Слуга бросился вон из опочивальни, в сенях набрал из дошника[13] воды в ковш, принес Рогволоду. Князь жадно выпил, но больше пролил на постель.
– Сейчас, княже, сбегаю за ведуньями. Жар у тебя, горишь ты весь, – бормотал Ольстин.
– Сон я видел, – ответил князь, откинувшись на подушку. – Худой сон.
– Болен ты, оттого мороки на тебя навалились, княже. – Ольстин с испугом оглядел горницу. – И у меня худые сны были. Надобно тут все омелой и можжевельником окурить, жонкам-ведуньям прикажу…
– Ратщу позови ко мне, – вдруг сказал Рогволод.
– Сейчас же?
– Сейчас же. И пусть не мешкает.
– Все выполню, княже.
– Добро, Ольстин. А теперь иди, оставь меня.
– Ведуний-то позвать?
– Не нужно. Полегчало мне вроде. Ты лучше дров на угли положи, знобит меня.
– Может, меду тебе согреть, али романеи?[14]
– Не надо, – князь приподнялся на ложе, посмотрел на Ольстина, и глаза его лихорадочно заблестели. – Ступай, Ольстин, позови Ратшу.
Ольстин поклонился. Прежде чем уйти, раздул угли, почти погасшие за ночь, подбросил еще калины[15] в очаг и, бормоча заклинания, украдкой, чтобы князь не видел, вынул из кисы на поясе какие-то корешки и бросил их в разгоревшееся пламя.
– Дозволяешь идти, княже?
– Дозволяю.
Едва Ольстин вышел, Рогволод бессильно откинулся на постель. Болезненный жар все пуще разгорался в нем, но не это томило князя. Болел он давно, хворь пристала к нему еще прошлой весной, ослабло тело, голова ургом стала идти, жар мучить. Световид на вопрос князя, что это за недуг, сказал просто: «Старость, княже». Шестидесятый год пошел Рогволоду, возраст почтенный, да и прожито было за эти годы так много, что на сто жизней хватило бы. В трудное время стал Рогволод князем антов, в войну с варягами престол принял. А до того бился и с аварами, и с хазарами, и со всякими чужинцами, и со словенами – соседями, с чудью и мерей, с урманами, дважды был в плену у хазар и дважды выкупался за немалое серебро, бывал тяжко ранен и лежал, ожидая смерти; после же без малого двадцать лет княжил над северными антами – народом, с которым боялись задираться и жестокая мордва, и водь, и кемь, и латгалы, и пруссы, и даже неустрашимые выходцы из Варингарланда. До сих пор боги хранили Рогволода и его потомство, но теперь предчувствие чего-то страшного овладело князем. Виденный сон был вещим – и был к большой беде.
Взгляд старого князя упал на любимый меч у изголовья – славный клинок, когда-то подаренный зятем, выряжским ярлом Рутгером. Меч был редкий, искусной работы, такого в землях антов больше не было. Сказывали варяги, что меч этот выкован был в далеком Дамаске, и искуснейший оружейник Нури ковал его. Рутгер некогда отдал за меч добычу с целого похода и не прогадал: арабский булат резал железо, как воск, не тупясь. Сам Рутгер называл меч ромейским, ибо некогда меч принадлежал ромейскому императору Феофилу. Ярл дорожил мечом, но, не задумываясь, отдал его выкупом за Мирославу. Влюбился в дочь Рогволода без памяти и в первую же встречу с ней. Рука князя невольно потянулась к оружию, коснулась черного сафьяна ножен, золотой рукояти, отлитой – по совпадению ли, или по тайной воле богов – в форме вытянувшегося в прыжке волка. Когда-то этот меч был ему овручь,[16] ныне стал неподъемным. Кому из сыновей его отдать? Боживою, Горазду, Первуду, Ведмежичу? Или тому, кто давно считается среди антов сгинувшим без вести?
– Пресветлый хорс, бог отцов и дедов моих, прогони мороки, верни мне силы! – шептал Рогволод, перебирая пальцами край одеяла. – Не оставь меня на волю Чернобого!
Слабость не оставляла князя, дремота накатывалась волнами, застилая глаза. Сколько Рогволод провел в беспамятстве, того он не ведал, да только, пробудившись, увидел, что солнце уже ярко светит в окна, и ведуньи хлопочут у очага, грея питье. Вскорости прибыл и Ратша.
Когда Ратше было семнадцать лет, а Рогволоду двадцать четыре, спас младший отрок княжича. В стычке с хазарами это было: неразумно полез молодой Рогволод в сечу и получил от хазарского оглана[17] навязнем[18] в голову. Ратша тогда оказался рядом, отогнал врагов и князя израненного на своем коне до стана довез. За то Рогволод любил Ратшу и доверял ему более прочих. Теперь же Рогволод решился доверить старому боилу[19] то, о чем молчал столько лет.
Воевода сидел у княжеского одра, слушал молча, не перебивая, лишь недоверчиво потряхивая головой, будто старался сон с себя стряхнуть – не верилось старику, что такое с ним наяву случилось, что взаправду слышит он такие речи.
Когда же замолчал Рогволод, окончив рассказ, Ратша схватил ковш с крепким медом, который принес Ольстин вместе с холодной лосятиной и пирогами, и в несколько глотков осушил его, крякнул и запустил огромную пятерню в свои седые кудри.
– Нет слова у меня для тебя, княже, – сказал он, как выдохнул. – Нечего мне сказать. Поразил ты меня. Как же сумел ты смолчать, сокрыть это?
– Световид клятву с меня взял. Княжескую кровь даже волхвы пролить не могли, да и я бы не допустил. Два пути у нас было: либо Мирославу с чадом в чужбины отправить, либо здесь скрыть от глаз недобрых… Что теперь толковать о том!
– Как же случилось, что за столько лет никто ничего не прознал?
– Воля богов то была. Я сам к Мирославе ездил под видом смерда, припасы ей возил. Видели меня люди, но ничего не заподозрили.
– Дело твое, княже. Скрыл, значит скрыл. Что от меня надобно-то?
– Чувствую, недолго мне осталось. Стар я, помру скоро. Хочу, чтобы ты Рорку опорой стал.
– Так и я стар, княже.
– Ты крепче меня. Боюсь, как помру я, сыновья мои Рорка не примут. А в Рорке спасение земли нашей.
– О чем ты, княже? Может, сон твой пуст?
– Не пуст. – Рогволод сверкнул глазами. – Догодя[20] до рождения Рорка отцу его, предсказано было, что сын его станет великим конунгом. Мирослава знала, что сыну ее великая судьба суждена. А мне колдун хазарский еще в плену говорил, что внук мой мир спасет от беды, которая придет равно ко всем – и к хазарам, и к антам, и к ромеям, и к латинянам. Когда беда случилась с Рутгером, я все сделал, чтобы о пророчестве этом никто не узнал. Но Световиду боги тоже тайну дома моего открыли… Тогда порешили мы спрятать внука моего с глаз людских подальше, чтобы анты не волновались. Я сказал, что Мирославу чреватую отправили к родне в Вешницы, а там ее хазары захватили.
– Чудно мне, князь. Все думаю, как баба с дитем малым одни в лесу столько лет прожили.
– А так и прожили. Знали о том трое лишь – я, Световид и варяжин этот блаженный, Турн. Поначалу он Мирославу хотел в жены взять, мальца сыном своим назвать, да дочь не захотела. Любила она Рутгера, ему одному и принадлежала. Джуда-хан, владыка хазарский, мне тайных сватов присылал, да напрасно… Ольстин! Подай еще меда воеводе.
– Все равно чудно. В лесу одни, среди нежити и зверья дикого.
– Турну я запретил ходить к Мирославе, да и Световид ему пригрозил. Когда Рорку пять лет исполнилось, я было хотел его в свой дом забрать под видом ясыря, у хазар купленного. Опять же Световид запретил. Волхвы о пророчествах мне напомнили, заставили мечом и Перуном поклясться, что оставлю эту затею. Световид от всех волхвов сказал мне, что жизнь ребенка в руках богов, а мы, слабые смертные, не должны их воле препятствовать. С того дня я ни Мирославу, ни Рорка не видел больше. Теперь за эту слабость себя проклинаю день и ночь.
– И сколько лет прошло?
– Без двух лун пятнадцать.
– Рорку должно около двадцати годов быть. Прости меня, княже, я вой, и делом моим всегда была война. Но вот скажи мне – неужто внука твоего от волхвов скрыть было нельзя? Мальцов много, поди разбери, кто из них внук княжеский…
– Нельзя, – князь наклонился к самому уху Ратши, зашептал жарко: – Облик у Рорка приметный. Когда он родился, Световид проклятый роды принимал.
– Мальцы меняются.
– Рорк родился седой и с глазами волчьими.
– Как с волчьими? – похолодел Ратша.
– Так, с желтыми, как у упыря или у волка-сиромахи… Что глядишь, очи вылупив? Думаешь, легко такое про внука своего говорить? Ни с кем Рорка не спутаешь. Проклятие Рутгера у него на челе написано.
– Странные вещи ты рассказываешь, княже.
– То дело давнее. Теперь надо Рорка из леса вернуть. Его время приходит. Все сбывается, как предсказано. Мальчик за эти годы воином стал.
– В лесу-то?
– Мирослава его стрелять из лука и рогатиной биться учила. А уж других умений у него в достатке. Ловкостью и силой он и в пять лет удивлял.
– Затем ты меня и кликнул?
– Поедешь за ним в Лес Дедичей. Если не ушел он из нашей земли навсегда, то там он, в старом доме Мирославы, у озера.
Ратша молча кивнул, хотя на сердце у него лег ледяной холод. Старый боил не боялся никого и ничего, но вот нежить его пугала. Хотя был ли Рорк нежитью – кто знает?
– Когда мне ехать?
– Сейчас же. Скажешь ему, что жду я его очень. Слушай, как найти дом Мирославы…
Ратша слушал молча, кивал. В Лесу Дедичей он не был давно, и еще бы столько лет туда не ходил. Жители Рогволодня, да и анты вообще лес тот обходили стороной. Считался он прибежищем всякой нечисти, леших и мавок. Вспомнил тут Ратша, как десять лет тому в землях антов вдруг начал пропадать скот. Поначалу пропавших овец даже найти не могли, а потом кости обглоданные да клочья шерсти нашли у окраины Леса Дедичей. Волчок в тот год анты побили немерено. Но волки ли скот тогда резали? И вновь старый Ратша поежился от холодного прикосновения страха.
– Все понял, княже, – сказал он, когда Рогволод, утомленный долгим разговором, замолчал, тяжело дыша. – Найду я его и доставлю сюда. И Мирославу уговорю прийти к отцу.
– Она не придет, – сказал вдруг князь. – Световид сказал, нет ее среди живых. Три года я считал, что и Рорк тоже умер. Но волхвы в болезни моей меня успокоили – жив он. Видение было Свитовиду, видел он мужа с волчьими глазами у ворот Рогволодня.
– Твое слово, – склонил голову Ратша. – Все выполню по слову твоему. А теперь выслушай и мою новость. Собирался я к тебе утром с доносом идти, но меня огнищанин твой опередил. Гости к нам, княже. Сторожа донесли вчера, с моря варяги идут.
– Верные ли вести?
– Верные. Рати с полтысячи будет на двадцати лодьях. Побратим их твой ведет, рыжий. Браги. Видать, урманы на кого-то собрались. Не на нас ли?
– Нет. С Браги у меня вечное побратимство, на мечах заключенное. Урманы таких клятв не нарушают. Варяжин за гривну серебряную брата в полон сдаст, но клятв, данных перед богами, не нарушит. Жаден и жесток этот народ, но не вероломен. Где они?
– К устью Дубенца подошли.
– Пошлю к ним навстречу Боживоя с малой ратью. Пусть гостей дорогих честь по чести сюда проводит. Ты же делай то, о чем я тебя попросил. – Тут Рогволод замолчал, пораженный неожиданной мыслью: а не связан ли визит варягов с Рорком, не было ли у Браги какого-нибудь откровения?
– Сделаю, княже.
– И вот еще, – князь дрожащей от слабости рукой придвинул воеводе меч Рутгера. – Свези внуку. Скажи, подарок от меня…
Солнце подошло к полудню, когда Ратша, оставив коня привязанным у поваленного дерева, вошел в лес. Найти тропинку, о которой говорил ему Рогволод, оказалось не так просто: с возрастом Ратша стал видеть хуже, а под кронами старых дубов, лип и вязов царил полумрак. Однако тропка нашлась – еле заметная, почти заросшая травой.
– На светлой заре встану на дворе лицом к Яриле, спиной к Свече, – зашептал боил, – прочту наговор сильный, в огне каленый, в воде томленый, четырьмя ветрами окрыленный. Призову наговором тем силу могучую, поклонюсь ей поклоном глубоким, со словом добрым обращусь, силе могучей подивлюсь. Защити меня, могота[21] великая, от шупела[22] злобного, от черной немочи, от жаха[23] ночного, от нави упадной,[24] от ворожбы и поклада, от нежити лесной, болотной, неназываемой, непоминаемой. Порази, могота, навь черную, лиши ее силы, страхом ее напитай, защиту от нави слуге своему дай! Слово мое верное, сильное, неразбиваемое, неразмакаемое, огню и воде непосильное. Благословите меня, пресветлый Ярила, Хорс и Белбог!
Закончив заговор, Ратша двинулся в глубь леса. Когда-то к старому капищу в лесу вела широкая просека, но потом случилось так, что капище волхвы по им одним ведомым причинам перенесли в другое место, и просека заросла. В лесу было холодно, и Ратша опять ощутил невольное беспокойство. Ведуньи сказали ему, что днем опасности нет никакой, да и наговор дали ему самый сильный из всех, и зачур[25] особенный на него повесили. Кроме меча Рогволода взял с собой старый воевода еще и посеребренный клевец, которым при надобности смог бы отбиться и от волка, и от упыря. День, впрочем, был хороший и ясный – в кронах полосами пробивался яркий свет, падал на полянки, где среди белых, желтых и лазоревых цветов порхали бабочки. Над головой воеводы щебетали какие-то птицы. Злых чар они не ощущали.
Идти пришлось долго, аж ноги у воеводы заныли от такой непривычно долгой ходьбы. Тропа все же привела боила к огромному замшелому камню, окруженному кольцом из камней поменьше – когда-то здесь было святилище неведомого народа, жившего на этой земле прежде антов. Здесь Ратша остановился. Рогволод говорил ему про старое требище[26] – это ли? Где-то в глубине леса защелкал крехтун,[27] и в душе воеводы опять шевельнулся страх. Правая ладонь невольно легла на грудь, где под толстой кожей поддоспешника висели обереги.








