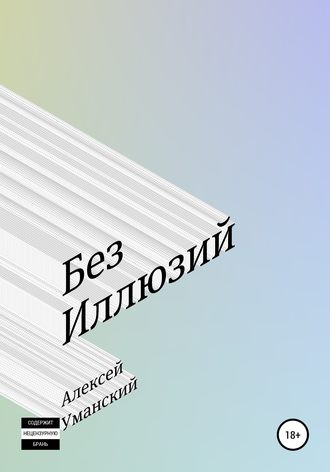 полная версия
полная версияБез иллюзий
Всем стало очень хорошо, но особенно мадам Малкиной, постоянно деятельной в своей сексуальной неуемности, к услугам которой принадлежал целый штат референтов и помощников нового мужа-академика и директора идеологического института, любимым занятием которого были посещения ЦК для определения курса и получения поручений, так что времени у любвеобильной дамы для ее основной работы находилось достаточно много. Всякая пакость беззастенчиво лезла наверх, чтоб не остаться среди обделенных благами жизни. Им было ясно, что надо делать. Точно также, как Люсе и Михаилу было ясно, что данный путь им не подходит.
Глава 8
Первые годы своей жизни с Мариной Михаил еще держал Люсю в поле зрения. Нет, не «на всякий случай» – просто потому, что хотел ее видеть или слышать живой и здоровой. Карьера ей более или менее удавалась. Время от времени ее отправляли в командировки в Соединенные Штаты. Слава Богу, кое-кто понимал, что, исследуя какие-либо процессы в чужой стране, надо ее хоть немного наблюдать. Человек здравого ума и вкуса, она за границей скучала по родной обстановке, где как будто чувствовала себя как рыба в воде, а вернувшись домой, не могла не злиться из-за того, как плохо живут в родной стране люди, и какие гнусные негодяи, а заодно и идиоты управляют ими в своем патологическом эгоизме и углубляющемся маразме. От ее внимания не укрылось, какими ничтожными духовными продуктами довольствуются в массе благополучно существующие американские люди, у которых все есть под рукой в таком количестве и качестве, которые советским гражданам даже не снились. Но куда же при этом благополучии деваются «души прекрасные порывы»? Даже проще – почему там у людей начисто атрофируется собственный вкус? Почему материальное процветание и преуспеяние лишает человека врожденного представления о прекрасном? Прямых ответов в жизни из своих наблюдений она не находила. Догадки, конечно, проскальзывали в голове, но до формирования научного знания дело не доходило. Да, в Америке работали без расслаблений – но не за совесть (на совесть хозяева не полагались), а за страх. Уставать на работе так, как в среднем не уставали советские труженики, было в норме. У них не было простоев или работы в режиме «ни шатко – ни валко», как зачастую бывает у наших промышленных рабочих в течение одной-двух первых декад каждого месяца со штурмовой работой в третью декаду, когда о качестве просто некогда даже подумать. Конечно, американцев зато не выматывали мысли о том, где купить продукты, во что одеть себя и детей – все это у них решалось элементарно, но вот страх потерять приличную работу был очень силен и угнетал в среднем больше, чем наших. Это казалось на первый взгляд парадоксом – у них миллионы работодателей, в то время как у нас – один-единственный – родное социалистическое государство. Но у нас-то единственный хозяин вынужден был иметь десятки или сотни тысяч рук, чтобы управляться со всем хозяйством, поэтому каждый руке не было известно, что делают другие, а те хватали работников, выброшенных другими функционерами системы, и устраивали их на новые места. А у американцев сотни тысяч разнозаинтересованных хозяев все-таки делали одно общее дело – сообщали друг другу, кого они вышибли из бизнеса за плохое поведение и непотребное отношение к труду. От Миши, да и от своего отца тоже, Люся слышала, что временами генеральные конструкторы авиационной техники договаривались о том, что не будут принимать работников, уволенных из других конструкторских бюро, да только выполняли свое же соглашение очень недолго – то месяц, то квартал. А потом, получив новый срочный заказ на очередную машину, открывали прием, да еще и приплачивали десятку к прошлому должностному окладу, дабы стимулировать переход, и это был, пожалуй, главный способ для инженеров хоть чуть-чуть улучшить свое финансовое положение. Так что в среднем страха потерять работу у нас было заметно меньше. Исключение составляли только лица, подозреваемые органами в активной нелояльности к власти – вот таких неукоснительно отслеживали по всей стране, не давая укрыться от преследования, обрекая на безработицу, а потом на основании факта неучастия в общественно-полезном труде сажали или ссылали за тунеядство. И все же – в Америке за тунеядство не сажали, как у нас, а трудились там куда лучше. Но вот почему наши образованные люди проявляли несравненно большее стремление к вершинам искусства, к хорошей литературе, чем их заокеанские благополучные коллеги, даже пребывая в хроническом дефиците денег на все про все, это все равно не объясняло. Да, американцы трудились, живя в рассрочку и при покупке домов и многого другого, и тоже с трудом рассчитывали деньги, растекающиеся из их кошельков полноводными ручьями, но ведь при желании выкроить нужные ресурсы для покупки книг, пластинок и прочего, для посещения кино, выставок, концертов им все равно было проще, а желания-то подобного не было – оно глохло, как только люди начинали активно обзаводиться недвижимостью и барахлом, хотя им никто, кроме литературных и прочих профессиональных художественных критиков не мешал смотреть, слушать и покупать именно то, что им хочется, в то время как у нас все хорошее было в дефиците, а хорошее зарубежное часто вовсе под запретом. Миша считал, что им мешает дух стяжательства и культ денег. Но ведь на многое американцы тратили деньги, не жалея, тогда как на предметы, отвечающие хорошему вкусу, расходовали их куда более сдержанно и неохотно. Или их с детства не приучали любить общепризнанные эталоны красоты, тогда как сами ничего не хотели понимать, только ждали, когда им укажут «специалисты» – вот это хорошо, а это плохо, это прогрессивно, а это не модно? Вечных эстетических ценностей для них как будто не существовало. А разве без этой основы можно о чем-то самостоятельно судить? Благополучие вообще притупляет интерес к поиску чего-то лучшего, имеющегося в мире, но пока что неизвестного или недосягаемого – по принципу «от добра – добра не ищут», хотя именно тогда, когда обеспеченно живется, стоило бы искать новое добро, чтобы существовать на этом свете не становилось скучно и не жить только ради того, чтобы работать.
В отличие от Люси Кононовой, получившей возможность лично оценить прелести и изъяны американской жизни, а, следовательно, и здраво судить обо всем, как у них и как у нас, Александр Бориспольский был залит «под пробку» очарованием общества личных свобод и свободы предпринимательства. Насчет того, что было действительно плохо в России, тем более – в СССР, с ним никто бы и не спорил. Но того, что было плохо или нежелательно для любого советского мечтателя в американском образе жизни, он не видел и, более того, даже не желал замечать. Основные мотивы для оценки положения там и тут он почерпывал в кругах, основной состав которых либо уже оформлял свой выезд в Израиль (читай в основном в Америку), либо сидел «в отказе», либо очень внимательно следил за развитием ситуации в надежде на ее улучшение, либо в расчете на получение точной информации для решения вопроса, ехать или не ехать самим. Естественно, в этих кругах преобладал оптимизм в отношении обстановки, в которой окажутся эмигранты на Земле Обетованной или в Благословенных Соединенных Штатах.
Саша был необычайно восприимчив ко всему, что изрекали столпы избранного им общества, и всегда во всю силу своего красноречия повторял уловленные сентенции, тенденции, оценки перспектив повсюду, где рассчитывал быть услышанным и понятым слушателями. В этом последнем качестве он вполне соответствовал выработанному большевистской идеологической машиной понятию о хорошем агитаторе и пропагандисте. Но точно так же, как большинство большевистских агитаторов и пропагандистов не были готовы, не щадя живота своего, бороться за торжество коммунизма в мировом масштабе, так и сам Саша Бориспольский не стремился во чтобы то ни стало уехать из страны, где неважно жилось, зато было не очень сложно по известной системе обзаводиться ученой степенью, в страну Обетованную на Ближнем Востоке или на дальнем Западе.
После ухода Михаила Горского в центр Антипова место главы его отдела занял Михаил Петрович Данилов. Саша не замедлил намекнуть ему, что желает стать его преемником в должности заведующего сектором. Впрочем, Михаил Петрович и сам бы сделал ему такое предложение – выбирать в данный момент было попросту не из кого. Для Бориспольского это было не только серьезным карьерным достижением, но и сигналом к тому, что надо поторапливаться с защитой диссертации – ведь одно дело, когда сектором в научном отделе заведует человек без ученой степени, и совсем другое, когда кандидат каких угодно наук – степень устойчивости по формальным критериям повышается прямо на порядок. Еще лучше для укрепления положения в должности было бы добавить к кандидатству еще и членство в коммунистической партии, но вот в партию он не хотел вступать ни за что. Это свидетельствовало о его принципиальности в собственных глазах, не говоря уже о посторонних.
Какую именно диссертацию представил Саша Бориспольский своему ученому шефу на филологическом факультете Валову, ни Данилов, ни Горский не знали – Саша с присущей ему осмотрительностью не предложил им познакомиться со своим научным опусом. Насчет Данилова он еще, правда, колебался – давать или не давать (с одной стороны, человек в высшей степени доброжелательный и независтливый, с другой, правда, в отношении знаний и убеждений более чем принципиальный), и в конце концов решил не давать. Ну, а Горский был уже далеко в стороне от прежних дел, и его лучше было не тревожить. Однако полностью скрыть то, что представляла собой его диссертация от нынешнего и бывшего шефа отдела Саша по воле случая так и не сумел. Во время одной дружеской встречи Михаил Петрович рассказал Михаилу Николаевичу о своем разговоре с недавно ставшим доктором наук Вольфом Абрамовичем Московичем, которого они оба уважали как за глубокое знание предмета, так и за то, что он был их единомышленником. Оказалось, что Саша обратился к Московичу с просьбой дать отзыв на свою диссертацию, ничуть не сомневаясь, как подумал Горский, что тот его поддержит хотя бы «по еврейству». Однако номер не прошел. Познакомившись с диссертацией, Вольф Абрамович сказал: «Знаете, Саша, то, что вы представили в своей работе, это откровенная халтура. Дать на нее положительный отзыв я не могу». Никак не ожидавший такого афронта Бориспольский опешил, но не надолго. Нашлись другие национал-специалисты, которые безо всяких сомнений исполнили свой долг по защите единоверца – не в смысле иудаизма – Саше он был чужд, так же, как и православие – а в смысле человека, видящего свой идеал в культурном обществе людей, близких по крови и убеждениям. Собрав все положенные бумаги и пройдя все необходимые этапы обсуждения диссертации, Саша вышел на защиту диссертации на филфаке и успешно защитил начатое дело.
Теперь его тыл можно было считать достаточно хорошо прикрытым. Он в этом смысле был укреплен гораздо лучше, чем у Михаила Петровича Данилова. Вообще говоря, Саша мог с большим основанием, чем тот, занимать должность заведующего научным отделом, но благоразумно справился с соблазном, помня, что поспешность хороша только при ловле блох, и что будет гораздо разумнее не допускать головокружения от успехов. Насколько он был прав, уступая осторожности в борьбе с собственной экспансивностью, в два приема показало ему достаточно близкое будущее.
Обнаружилось, что директор Панферов пригласил на работу не только своего приятеля Юрия Ильича Блохина, с которым сблизился в молодых специалистах в агрегатном авиационном конструкторском бюро, но и их тогдашнюю коллегу, так же, как и они, выпускницу МВТУ им. Баумана, Людмилу Александровну Фатьянову. Панферов определил было ее заведующей отделом в направление, занимающееся созданием информационной системы стандартных справочных данных о свойствах веществ и материалов, но вскоре вышло постановление о выделении этого направления в самостоятельный институт, а ни Панферову с Фатьяновой, ни Фатьяновой с Панферовым расстаться совсем не хотелось – не в связи с любовной близостью (ее не было), а в силу обоюдной полезности и уверенности в поддержке друг друга. Панферов начал срочно подыскивать вакансию подходящего уровня в штатах других направлений. Свободных вакансий не было, и тогда он остановил свой выбор на Данилове, с которым лично познакомился во время пребывания в командировке во Франции. Советскую делегацию возглавлял тогда тот самый первый заместитель председателя Госкомитета, с которым жила Орлова, и с помощью которого она провернула операцию по переброске себя и Горского на новую тематику – его – на провальную, себя – на спасительную. К этому времени заместитель председателя уже начал понимать с помощью Данилова и зарубежных партнеров по созданию информационной системы ИСО, что прав в свое время был Горский, а не Орлова. Он уже вполне лояльно настроился в отношении Данилова – и Панферов тоже, когда произошел как будто малозначительный случай на почве приобретения вещей из скудных командировочных средств. Заместитель председателя уже не в первый раз посещал Париж и потому хорошо представлял, где можно было приобрести максимум вещей по самым низким ценам. Он даже и не спрашивая, повел свою команду не в магазин, а на оптовый склад, в котором торговал понимающий по-русски еврей. Заместитель среди других вещей выбрал для себя искусственную «дубленку» (текстиль по выделке очень напоминал кожу), Михаил Петрович тоже, в то время, как директор Панферов выбрал себе что-то иное. Однако уже в отеле он так сильно раскаялся в своем промахе, что стал просить Данилова уступить ему свою псевдо-дубленку. По всем законам административной мудрости Михаилу Петровичу просто полагалось охотно пойти навстречу директору (это ему несомненно зачлось бы с большой отметкой «плюс» и в текущий работе, и при решении вопросов о грядущих загран-командировках), однако Данилов этим поводом абсолютно пренебрег. Полушубок нравился ему самому, и он не видел причин с ним расставаться. Зато в этом инциденте Панферов усмотрел достаточную причину для того, чтобы расстаться с Даниловым. Он вызвал к себе заместителя директора по кадрам и режиму и поручил срочно проверить состояние трудовой дисциплины в отделе Данилова. Тому не надо было переводить директорский евфемизм на русский язык – «найди предлог для смещения Данилова». Понимать подобные приказы без промедления и дополнительный разъяснений входило в его профессиональные обязанности. Процедура проверки была нарочито поставлена в самом хамском варианте, что не могло не вызвать возмущения Данилова, который в знак протеста тотчас подал заявление об уходе. К счастью, работа для него практически сразу же нашлась в институте информации по общественным наукам, но в должности старшего научного сотрудника, а не зав. отделом, чем, впрочем, он тоже был доволен, поскольку заниматься административными делами вполне откровенно не любил, а в деньгах он потерял мелочь. Панферов не ожидал, что освободить место окажется так просто. Отдел Фатьяновой еще существовал в рамках направления, которое уже должно было быть переведено, но все никак еще не переводилось. А потому он решил назначить вместо Данилова исполняющим обязанности заведующего отдела Александра Борисовича Бориспольского. Так, не приложив ни малейших усилий со своей стороны, Саша получил вожделенный пост. Но когда направление стандартных справочных данных вывели, наконец, из подчинения Панферова, и у Фатьяновой возникла реальная необходимость в срочном устройстве на должность Данилова, Саша был без промедления смещен в свою прежнюю должность заведующего сектором. Для этого потребовалось еще меньше административного вмешательства в судьбу неугодного лица. Саша к тому времени в качестве общественной нагрузки имел обязанность периодически выпускать стенную газету своего направления. Наряду со скучными, а иногда и смешными текстами газетное поле заполняли рисунками и карикатурами. В одном из «номеров» на видном месте была изображена рука в манжете с запонкой, которая подписывала некую бумагу. Газета была просмотрена в партбюро, получила добро на «публикацию» и оказалась на стене. А на следующий день в газете появилось крошечное изменение: на запонке того манжета, из которого высовывалась подписывающая рука, возник всемирно известный символ сионистов – шестиконечная звезда Давида в виде двух пересекающихся равносторонних треугольников с совмещенным центром симметрии. Эта «наглая выходка пособников международного сионизма» немедленно стала предметом рассмотрения в партбюро. Кто отвечает за идеологическую диверсию в газете? Естественно, кто – ее редактор. А разве можно такому редактору доверять идейное воспитание сотрудников отдела, даже если принять, что магиндовид поставили на запонке без его ведома, но проглядел-то все равно ОН! В тот же день Бориспольский Александр Борисович перестал заведовать отделом, а на этот пост вступила кандидат технических наук, член КПСС товарищ Фатьянова Людмила Александровна. Саша понял, что и в его тылах имела место солидная брешь, и потому побить его своими козырями Фатьянова смогла без труда. Самое смешное заключалось в том, что она в этих трудах лично никак не участвовала. Михаил Горский короткое время (это произошло еще до знакомства с Мариной на новой работе) ухаживал за Людочкой Фатьяновой. Она была хороша и умна. И очень напоминала ему его маму – признанную красавицу в её молодые годы. Ему показалось на первых порах, что Люда тоже заинтересована в нем. Но очень скоро она допустила роковую для их дальнейших отношений тактическую ошибку: попыталась сильнее привязать к себе напускным фальшивым равнодушием. Строго говоря, Михаил не сразу получил основание считать равнодушие деланным – ему было достаточно любого, в том числе и настоящего, чтобы прекратить свои ухаживания немедленно и бесповоротно. Это только потом выяснилось как из Людиных слов, так и из поступков, что она сильно страдала от его удаления и равнодушия, прежде чем у них установились длительные отношения искренней дружбы, вплоть до ее фатальной болезни и кончины. Об их коротком, не успевшем развернуться романе практически никто из сотрудников обоих их отделов так и не узнал. Исключение составляла лишь одна бывшая сотрудница Людиного отдела, которая поступила на работу в сектор Михаила в институте Антипова. Через нее Люда узнала о его любви к Марине, через нее старалась дать ему знать, что он оставил ее без достаточных оснований. С этим, однако, она опоздала навсегда. Преодолеть тягу к Марине не мог уже никто. Она стала для него самой дивной и главной женщиной на свете. И Люда в конце концов смирилась с этим, а ее чувство переросло, а то и сублимировалось в духовную симпатию, для поддержания которой не требовалось обязательной и явной сексуальной первоосновы. Оказалось, что можно было любить и так.
Саша Бориспольский не имел ни малейших представлений ни об их знакомстве, ни о характере их отношений. Как полагал Михаил Горский, это уберегало его от очередной травмы, которую он, сам того не ведая, раз за разом наносил Саше. После двух любовниц Михаила – несомненно женщин экстра-класса! – о которых Бориспольский точно знал, он не мог чувствовать себя неуязвленным успехами шефа, пока они работали в одном институте. А когда он познакомился с Мариной, то просто потерялся в догадках, по каким причинам лучшие женщины так расположены к Горскому. Это могло проясниться в походе в майские дни («от первого мая до Победы»), куда Марина и Михаил захватили нескольких сотрудников института, в том числе и Бориспольского, на озере Тихмень, через которое протекала река Каменка, впадавшая в Граничную. Рано утром, зная, что Михаил купается в стылой воде после недавнего вскрытия озера ото льда, Саша увязался за ним под предлогом того, что хочет убедиться, что он действительно плавает. Михаил мог послать его прямым текстом, сказав, что хочет купаться без соглядатаев, но не послал. Мог погрузиться в воду в плавках, но не стал этого делать. У него созрел план озадачить Сашку еще сильнее прежнего. Тот явно предполагал, что самое мощное, убийственно действующее на женщин его оружие находится пониже живота, но то, что увидел, напоминало разве что принадлежности обнаженных мужских античных статуй, каких уже почти не увидишь в современных банях. Саша был настолько растерян, что был уже не способен управлять мимикой своего лица. Он перестал что-либо понимать, ибо все гипотезы насчет причин успехов Михаила у дам, совершенно явно оказались неверными. А что бы случилось с ним, если бы он знал еще о романе с Ниной Тимофеевой, отказавшей ему после его наглой попытки навязать себя ей в любовники, да еще и о страданиях очень даже красивой Люды Фатьяновой, на которые она обрекла себя своим притворством? При этой мысли Михаил невольно улыбнулся. А Сашка продолжал стоять как пень, с глупым лицом, пока Михаил на его глазах растирался полотенцем. Так что секрет воздействия Горского на дам остался абсолютно нераскрытым. Если б Сашка его узнал, он, скорей всего, возненавидел бы Михаила как человека, всякий раз отнимающего у него предмет мечтаний – вот только увидишь, мысленно примеришь женщину к себе, а она оказывается не с тобой, а с ним, черт его дери. И поди догадайся, в чем тут дело.
Но поскольку Бориспольский знал много меньше необходимого для ненависти к Горскому, он относился к нему почти нейтрально – как к человеку, удобному, когда он тебе начальник, и почти как к пустому месту в остальных случаях, когда прямой пользы от него не ожидалось. Все-таки Горский не относился ни к тому типу людей, с которыми хотелось бы общаться когда угодно, без ограничений, ни к тому кругу, где люди перекидывали друг другу одинаковые мысли в несколько различающихся обертках, где ни у кого не вызывало желания вбрасывать новую идею, не прошедшую предварительную апробацию ТАМ, ГДЕ НАДО.
Он постоянно настраивал свои струны по камертону, блюстители которого, в его понимании, всегда были правы. А Горский не делал этого никогда. Свой ум он настраивал в соответствии с суммой знаний, полученных в ходе жизни. Авторитеты для него существовали, но абсолютного преклонения перед ними не было. Достаточно почтения он проявлял уже тем, что, вспоминая и думая о них, он, образно говоря, стоял перед ними, склонив почтительно голову со шляпой в руке. Но все равно в каждом подвернувшемся случае старательно проверял, правы ли они в своих выводах с позиций его собственных, Михаила Горского, натурных наблюдений, а также его же рассуждений, следующих из них. Пожалуй, именно в этом Михаил видел главную «разницу культур», как выразился Борис Лавренев, между собой и такими людьми, как Бориспольский. Это практически исключало Горского из числа лиц, которым хозяева жизни отпускают свое официальное признание и ученые степени. Настоящим живым образцом благородного честного мыслителя был для Горского из числа хорошо знакомых людей один Михаил Петрович Данилов. Уверенность в величайшем достоинстве этого человека только росла год от года, а после кончины Данилова он виделся Михаилу Горскому уже просто в ореоле святости Истины, поиску которой он абсолютно бескорыстно служил. Пожалуй, где-то рядом с Даниловым можно было поставить столь же честного и благородного Делира Лахути, но в последнем чувствовалась не только искренняя преданность Истине, но и некоторым сопутствующим ей иллюзиям. У Данилова же веры в иллюзии не было. Он служил Чистому Разму, и, однако, вопреки этому он был иррационально предан своей родине и оставался неизменно выше всех своих друзей и знакомых. С некоторыми из них Данилов познакомил и Горского. Впервые пригласив своего начальника на свой день рождения, Михаил Петрович добавил: «Приходите с кем хотите. Можете с Ламарой, можете еще с кем», Напутствуемый этими словами Михаил Горский задумался, с кем придти. Лена, жена, отпадала – у нее был совсем другой круг интересов и знакомств. По поводу Ламары Ефремовой, которую Михаил отбил у Дианы Прут и которая из признательности до поры – до времени принимала ухаживания Горского, что не укрылось от внимания Данилова, он мог признаться себе, что дошел до предела, когда надо либо убедиться в искреннем встречном движении дамы, либо прекратить дальнейший поиск любви. Убедившись в отсутствии у Ламары ярко выраженного интереса к своей персоне и нисколько не желая изо всех сил добиваться его, Михаил прекратил ухаживания. Поэтому Ламара отпадала тоже, и он решил привести к Михаилу Петровичу Люсю Кононову.
Самой заметной фигурой в собравшемся на квартире отца именинника обществе старался быть – и действительно был – его давний друг Александр Пятигорский. Михаил Петрович называл Пятигорского просто Сашкой. Тот не так давно женился на сотруднице отдела Горского Эле Поповой – молодой девушке, недавно закончившей Библиотечный институт. Коротко подстриженная брюнетка с прозрачными серыми глазами и свежим лицом владела стенографией. И когда Пятигорскому потребовалось стенографистка для срочной записи идей, которыми фонтанировал его мозг, он спросил Данилова, не сможет ли тот ему помочь. Михаил Петрович помог, и в результате Эля произвела на уже начинающего стареть светского льва, каким считал себя Пятигорский, уже получивший известность как философ и эссеист не только на родине, но и за рубежом, такое сильное впечатление, что из мисс Поповой она очень быстро преобразилась в миссис Пятигорскую, причем в буквальном смысле, потому что в скором времени, меньше, чем через год, они покинули скучную для обоих страну и поселились в Англии. Однако к тому дню рождения Данилова последнее еще не было известно. Александр Моисеевич Пятигорский, сидя в кресле, опирался локтем правой руки о подлокотник, чтобы легче было удерживать трубку на отлете и с помощью легких движений кистью руки придавать ею еще дополнительную выразительность своим словам. Весь его вид, как и трубка в руке, порождали воспоминания (к сожалению, только книжные и театральные) о том, как следует держаться в столичном людном салоне и чем занимать общество. На нем был яркий галстук-бабочка и широко открывавший грудь в белой сорочке пиджак (к сожалению, еще не смокинг, который придал бы его фигуре и позе совсем законченную выразительность и светскость). Он в остроумно-забавной манере рассказывал о своих злоключениях по поводу издания очередной книги, которую разные явные и неявные цензурные инстанции не желали публиковать. Ему очень хотелось дать всем понять, что он раздражает эти органы и инстанции не только своими мыслями и эссе, но и всем стилем своего поведения, ну вот как здесь, например, но все же не решался сказать об этом прямо, без обиняков, и дать понять, что это его не пугает. Михаил пришел к нему на помощь.





