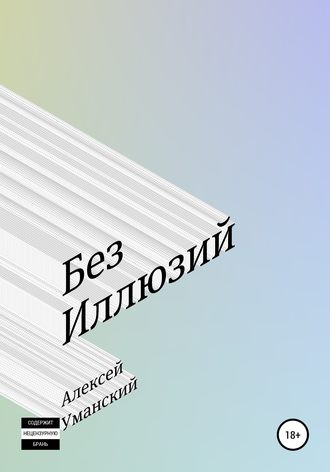 полная версия
полная версияБез иллюзий
Надо отдать должное Бориспольскому – будучи довольно легкомысленным человеком, привыкшим в основном порхать по верхам, он эту языковую власть над миром, над обществом ощущал вполне определенно и потому усматривал в своих занятиях информационно-поисковыми языковыми средствами, как нечто подобное служению культу главного божества в современном научном универсуме знаний. Да, он мог признавать про себя, что Валов – профанатор и такой же халтурщик, как он сам в эпоху подготовки диссертации, но ведь выбрали-то они фундаментально верную ориентацию на тот род занятий, от успехов которых будет прямо зависеть будущность всего человечества. Если с какого-то момента своей деятельности Саша сознательно решил избавить голову от халтуры и начать жизнь честного служителя науки, заботящегося о приспособлении естественных лингвистических средств к пока еще примитивным возможностям технических и программных устройств, привлекаемых к поиску и анализу тестовой информации, то что в этом могло быть плохого? Разве мало пользы людям приносили покаявшиеся грешники? Взять хотя бы пример святого апостола Павла, который первоначально был гонителем христиан. Или пример будущего адмирала Ричарда Берда, который в молодости совершил грех – вылетел со Шпицбергена, откуда должен был стартовать дирижабль «Норге», раньше Амундсена на своем самолете, чтобы принести себе и Америке славу первого покорителя Северного Полюса по воздуху, что, конечно, само по себе не было грехом, а являлось скорее неуместным спортивным соревнованием; грех был в другом – он развернул самолет до того, как достиг Полюса, но по сговору с механиком после благополучного приземления наврал, что над Полюсом был. Правда, публично в этом грехе Ричард Берд так и не покаялся, но это незадолго до своей смерти сделал его механик. Не будучи изобличенным, Берд возглавил воздушные Антарктические экспедиции, действительно впервые достиг по воздуху место Южного Полюса Земли и сделал много ценного и полезного для познания неведомого континента Антарктиды, что и было по справедливости высоко оценено как американскими властями, так и мировым научным сообществом.
И пусть масштабы деятельности Бориспольского и Берда различались достаточно радикально, но суть духовного преображения могла быть в обоих случаях одна – конечно, при условии, что таковое имело место в душе у Саши, хотя почему бы и нет? Мысль об этом занимала далеко не главное место в голове у Горского, а приобрела она больший вес только после того, как Людочка Фатьянова, а затем независимо от нее Саша Бориспольский, предложили ему вернуться на прежнее место в институт Панферова, потому что Люда собиралась стать главным лицом в новом направлении по унифицированным системам документации, а им обоим было очень небезразлично, кто после Фатьяновой займет место заведующего отделом. К тому времени отношения между Антиповым и Горским достигли критической фазы. Этому очень способствовал начальник отделения, в которое входили лаборатория и сектор Михаила, по фамилии Белянчиков.
Его Михаил помнил вприглядку еще по учебе в Московском Механическом институте. Они оба учились тогда на втором курсе, хотя и на разных факультетах – просто с несколькими ребятами и девушками из той учебной группы, в которой был и Белянчиков, Михаил ходил в зимний поход по дальнему Подмосковью. После завершения третьего курса их пути совершенно разошлись, поскольку несколько групп с факультета Михаила перевели в МВТУ имени Баумана, точно так же, как годом раньше группу Белянчикова перевели из МВТУ в Механический институт. Горский вновь познакомился с Белянчиковым, школьным приятелем директора, когда поступил в центр Антипова. Белянчиков тогда чувствовал себя не совсем уверенно в информационной проблематике, поскольку до этого занимался только разработкой технических автоматических систем для авиации. С благословения директора, в глазах которого Горский показал себя вполне дееспособным работником, которому можно поручать серьезные самостоятельные задания, Белянчиков взял Михаила в свое отделение. В то время он с большим пиететом относился к Горскому, который уже пользовался авторитетом в профессиональных кругах. Однако постепенно хорошие отношения с Горским – почти доверительно-конфиденциального и коллегиального характера – перестали устраивать Антипова. Обладая рациональным умом и энергичным служебным темпераментом, а также поднаторев на новом поприще, Антипов решил делать еще более серьезную чиновную карьеру, исходя из уверенности, что его личного интеллекта вполне достаточно для успешного проведения любых дел в своем центре, а потому ему не требуются ни советчики, ни соавторы, а нужны всего-навсего деятельные исполнители его верховной воли. Этот новый стиль совсем не понравился Горскому. Он и раньше отмечал, что кое-какие выпады директора в его адрес можно было объяснить только одной причиной – Михаил проводил всю разработку от начала и до конца сам, без идеологических подсказок Антипова, тогда как тому импонировали подобострастие и лесть, а не чья-то идейная независимость. Зависть была мелким чувством внутри сильной личности, каковой считал себя Антипов, но она угнездилась там очень прочно, и избавляться от нее директор нисколько не желал. Но вот без чего он совершенно не мог обходиться на своем управляющем посту – так это без подхалимажа. Да, он видел насквозь эту низкую публику, абсолютно не уважал ее, бичуя по поводу и без повода, но для психически удобной для него атмосферы, в которой он мог проявлять себя, как душе угодно, не опасаясь встретить никакого отпора, он уже не чувствовал себя хорошо. Возможно, так он снимал с себя нервное напряжение, возможно, в уступчивости и лести он видел дополнительное доказательство своего превосходства, что было ему необходимо для карьеры и веры в успех. Подобострастием Михаил Горский никогда не отличался – наоборот, как правило, бывал ершист и позволял себе говорить то, что думал, а лестью и вовсе пренебрегал и не владел. Дискуссии с Антиповым по делу он находил вполне нормальным способом достижения наилучших решений, когда обе стороны взвешивали все «за» и «против» того или иного варианта. Антипов, прежде придерживавшийся того же стиля поведения, теперь ради экономии времени и ублажения своего Я как Мыслителя, перестал детально обсуждать свои идеи и поручения с кем-либо из подчиненных. Белянчиков оказался в высшей степени чувствительным датчиком, улавливающим все изменения в предпочтениях и поведении шефа. Он уже сделал свой выбор, решив постоянно во всем следовать в кильватер за школьным приятелем и нынешним лидером, безусловно соглашаясь с тем, что Антипов гораздо более крупная и сильная личность, чем он. У Белянчикова появились основания считать, что при поддержке аргументации Горского последний может поссорить его с директором. В то же время выполнять волю Антипова, когда она представлялась Горскому ошибочной, он уже желанием не горел, а в этом Белянчиков находил признаки саботажа и несоответствия той роли, которую Горский должен был исправно играть. После примерно трех лет работы в относительно благоприятной обстановке Михаил понял, что он стал персоной нон-грата и для Антипова и в еще большей степени для Белянчикова. Поэтому к приглашению вернуться назад в институт Панферова, откуда в свое время с огромным облегчением ушел, он рассматривал со всей серьезностью.
Вернуться было действительно реально. Ведь сам Панферов, расставаясь с ним без малого пять лет назад, по собственной инициативе сказал: – «Если у вас на новом месте не получится, возвращайтесь. Я возьму вас назад.» Директор оставался на месте. Пустыми обещаниями он вроде никогда раньше не баловался. Да и Люда, имевшая большое влияние на его поступки, тоже бралась обеспечить Михаилу «зеленую улицу» со своей стороны. Ненавистный по прежней работе из-за садистского характера заместитель директора Титов-Обскуров уже давно не командовал направлением классификации – и это было едва ли не главное, что побудило Горского уйти из института. Бориспольский взялся ориентировать его в сложившемся к данному моменту состоянию работ, равно как и в ожидаемом их развитии и планах на будущее. Здесь Михаилу не все внушало доверие в успех дела, но в сравнении с тем, в каком положении он принимал дела от Марии Орловой семь лет назад, эти сомнительные моменты выглядели сущей мелочью. Новый состав отдела не слишком сильно отличался от прежнего – известных ему сотрудников было не меньше половины. Правда, не было Данилова, который один стоил едва ли не больше всех, вместе взятых, но ведь теперь и стадия разработки была уже иной, когда уже не требовалось прокладывать путь в terra incognita. После детального анализа ситуации как в центре Антипова, так и в институте Панферова, Михаил, скрепя сердце, понял, что лучше уйти туда, откуда пришел. Других подходящих вариантов на его горизонте не было.
Он условился с Людмилой Алексеевной Хабаровой, не только познакомившей его с Мариной, но и бывшей ему в делах правой рукой, что, вернувшись к Панферову, он обеспечит переход туда и ей. И после этого подал заявление об уходе. Естественно, никто и не думал его задерживать, тем более – приглашать вернуться обратно, «если что». Жалели о его уходе только сотрудницы его сектора. Не считая Люси Хабаровой – еще Нина Тимофеева, его прежняя любовь до встречи с Мариной, Лиля Быстрова и Вита Михайлова. И вдруг выяснилось, что жалел еще один человек, который прежде вел себя скорей как враг, чем нейтрал по отношению к Михаилу. Это был Станислав Григорьевич Виноградов, его ровесник, человек с очень дельной головой и заметным апломбом. Он особенно выдвинулся вперед после того, как Михаил впал в немилость у Антипова и Белянчикова. Виноградов занялся реализацией технологии по той схеме, которую считал нужным реализовать Антипов и в которой Горский видел крупные недостатки. Безусловно, Станислав где с ведома, где без ведома Антипова старался действовать как можно более рационально, часто споря с Горским и жалуясь на него, нередко не по делу, Белянчикову, который от этого был просто в восторге. Однако со временем ограничения, наложенные на весь ход процесса директором, все чаще вызывали несогласие Виноградова, а поскольку он был человеком самолюбивым и всегда стремящимся блюсти собственное достоинство, это не могло не привести к столкновениям с обоими шефами. Кончилось тем, что Станислава отстранили от руководства технологией, правда, без столь же резкого выражения неприятия, как Михаила, но все равно оскорбительного, учитывая все, что он действительно успел сделать, когда его заменили совершенно бесцветной фигурой, от которой нельзя было ждать никаких инициатив.
Об этой перемене ролей Белянчиков сообщил на совещании, где присутствовали все причастные к делу коллеги, кроме самого Виноградова. В объяснении Белянчикова относительно причин данного решения не было упомянуто ничего, за исключением анекдотического по краткости заявления: «Виноградова вроде уже как поздно ругать за ошибки, а его преемника еще рано.»
Всех присутствующих, за исключением Горского, очень рассмешила эта содержательная формула. Смех не стихал, по крайней мере, полминуты. За это время Михаил успел посмотреть на физиономию каждого из присутствующих. Зрелище заставило его брезгливо поморщиться. О том, что произошло после совещания в лаборатории Виноградова, Михаил догадался только тогда, когда дорабатывал у Антипова последние дни. В один из них Виноградов при встрече в коридоре подозвал Михаила к окну и негромко спросил: – «Вы уходите к Саакову?» Сааков был заместителем Панферова по направлению классификации и по прежней работе Михаил его не знал. В голове мелькнуло было, говорить или не говорить – ведь прежде антипатии Виноградова к Михаилу были куда заметней его симпатий, но в следующий момент Михаил понял, что скрывать уже незачем. – «Да,» – подтвердил он, пытаясь понять причину интереса Станислава к его будущему.
– Мы с ним вместе работали в тринадцать двадцать три, – сказал Виноградов.
Это был номер знаменитого почтового ящика, которым руководил до ликвидации его отца сын Берии Серго.
– Он спрашивал меня о вас, – продолжил Виноградов. – Я сказал, что вы – человек на своем месте.
– Спасибо, – отозвался Михаил.
Такая похвала дорогого стоила.
– Желаю вам успеха.
– Еще раз спасибо, – сказал Михаил. – И я вам тоже.
Горский в задумчивости отошел от Виноградова. Ему хотелось понять, что побудило этого человека признаться в том, что он помог ему без всяких просьб оказать содействие в переходе. Да и какие могли быть просьбы, если он и понятия не имел о знакомстве Виноградова с Сааковым? И тут ему вспомнились Белянчиковские слова: «Виноградова уже вроде как поздно ругать за ошибки, а его преемника еще рано.» и смеющиеся физиономии тех, к кому они были обращены. А следом пришла и разгадка.
Одна молодая женщина смеялась не так долго и не так громко, как остальные присутствующие. Она тоже переводила взгляд с одного лица на другое. Ее звали Ирина Сцепуро, она работала в лаборатории Виноградова. Нетрудно было догадаться, что после ее возвращения с совещания Станислав спросил ее, как было обставлено сообщение Белянчикова. Она сказала, добавив, какой это вызвало смех. Вероятней всего, Виноградов сказал: «Наверно, громче всех там смеялся Горский?» – И тут Ирина возразила: «Он один не смеялся. По очереди смотрел на каждого и кривился от презрения или гадливости.» Объяснить изменение поведения Станислава Григорьевича больше было нечем. Так с разных сторон сошлись силы, поддерживающие возвращение Михаила в старый добрый и долго ненавидимый институт. Как он узнал позже, благожелательный нейтралитет к нему продемонстрировала и секретарь партбюро института Басова, которую он семь лет назад взял к себе в отдел заместительницей без ожидаемых ею возражений, хотя ее сейчас очень активно подталкивали к этому два мерзавца, которым Михаил до сих пор не причинил ни малейшего вреда.
С первым, Новоградовым, он едва успел познакомиться перед самым уходом из института к Антипову – его как своего конфидента привел Панферов, сделав заведующим научно-техническим отделом (на самом деле надзирающим отделом по образцу управления делами в совете министров СССР, только много миниатюрнее). Второго, который во время отсутствия Михаила приступил к работе в качестве заместителя директора института по кадрам и режиму (то есть, безусловно, смотрящего от КГБ), Плешакова, Михаил увидел только тогда, когда пришел к нему с анкетой на оформление. Оказалось, что оба были вполне осведомлены о том, что Горскому ни в чем доверять нельзя, что директор совершает ошибку, выполняя свое обещание, которого Михаил не испрашивал, взять его назад, «если что». Люда Фатьянова хорошо знала цену обоим, равно как и то, чем именно они старались повредить априорно ненавидимому Горскому.
Возвращение на круги своя, как и предполагал Михаил, не принесло ему ни удовлетворения, ни радости – всего лишь краткое временное облегчение от гнета, как то бывает у лошади, когда ей заменяют один хомут на другой. После детального рассмотрения состояния дел в своем старом-новом коллективе, когда выяснилось, что через неполный квартал, оставшийся до конца года, предстоит сдать по хозяйственному договору с международным институтом СЭВ по информации макротезаурус, который только собирались начать создавать, потому что всё до сих пор сделанное по теме, в лучшем случае тянуло только на предварительные прикидочные исследования, он впервые подумал, что Люда спешила перейти на новую тематику, а его, Горского, поскорее поставить вместо себя не только потому, что усматривала там лучшие возможности и перспективы дальнейшей карьеры, а еще и прежде того потому, что надо было как можно скорей уйти в сторону от ответственности за более чем вероятный провал. Люда явно надеялась, что в ответ на ее помощь в возвращении на свое прежнее место Михаил проявит великодушие при приемке дел и не поднимет шум во избежание переноса ответственности с себя на нее. Он поступил, как она ожидала, хотя в ушах уже и стояло предупреждение Саакова: «После принятия дел по акту отвечать за всё будете вы!» Это было для него совсем не ново. Впору было объявлять, что его специальность – это отвечать за то, что наделали или, наоборот, не сделали другие. А ведь макротезаурус был не единственной темой, по которой могли возникнуть до конца года тоже немалые проблемы: первая редакция русской версии трехъязычного тезауруса ИСО, какие-то СЭВовские многосторонние проекты по созданию тезауруса по стандартизации и двусторонние проекты того же пошиба совместно с Чехословакией и ГДР. Из огня он определенно попал в полымя. Надо было срочно определяться, что делать в первую очередь.
Попытка договориться с заказчиками макротезауруса из Института СЭВ по научно-технической информации о переносе срока его представления хотя бы на квартал окончилась безрезультатно. Доводы Михаила, предупредившего, что они получат слишком сырой словарь, не пригодный для немедленного использования, не возымели действия. Социалистическая система планирования и отчетности в СЭВ точно соответствовала советской. Представь что угодно, отчитайся в этом, вот что самое главное. А что с этим делать потом, не так уж важно. Оставалось надеяться, что два основных указателя макротезауруса будут построены с помощью ЭВМ на основе введенной в ее память первичной информации о пошаговых иерархических отношениях между лексическими единицами словаря, а также синонимами. По своему и чужому опыту Михаил знал, что при работе многих людей на одном и том же сводном массиве лексики из-за разных индивидуальных мнений о том, что иерархически выше, а что ниже, что чему синонимично, а что нет, неизбежно возникновение круговых (циклических) структур, недопустимых с точки зрения логических принципов построения тезаурусов, вместо стройных, хотя и лексически пересекающихся, иерархических деревьев. Разрывать циклы и контролировать правильность построения иерархических структур можно было только визуально, вручную, а на это требовалось время, но его не дали.
С тезаурусами по стандартизации дело было несколько проще. Михаил убедился, что Люда, следуя принципу «убивать одним выстрелом двух зайцев», раздувала объемы плановых работ за счет того, что один и тот же продукт выдавался за две разные плановые позиции – он проходил и как русскоязычная часть многоязычного тезауруса СЭВ, и как русскоязычная часть двуязычного тезауруса с каким-либо отдельным национальным вариантом того же многоязычного тезауруса. Обилие, точнее – дутое обилие, плановых позиций позволяло Люде добиваться из квартала в квартал первых мест в социалистическом соревновании, в конкуренции с другими отделами по встречному плану, то есть по существу соревноваться с помощью жалких уловок, создающих видимость перегрузки, каковыми, просто с меньшей ловкостью и грациозностью, пользовались и другие отделы. И так не в одном институте, а практически везде. Вся страна под руководством родной коммунистической партии играла в детские игры по повышению производительности общественного труда. Помимо уже изрядно одряхлевшей и надоевшей игры в повышенные соцобязательства, вспоминались старые, еле-еле знакомые нынешнему поколению способы «оживления» социалистической экономики – например, «встречный план»; изобреталось сотрудничество в рамках СЭВ и двухстороннее сотрудничество по тем же темам с отдельными странами СЭВ. У Михаила уже пухла голова от всех этих внешне разнотипных категорий планирования, перепланирования и отчетности, в то время как Люда Фатьянова чувствовала себя в обстановке этого системного помешательства на фикциях как рыба в воде. Да и не она одна. Ежеквартально на неделю или больше основным занятием профсоюзных комитетов страны становилось подведение итогов, где сравнивались отчеты всех подразделений о том, что они успешно выполнили государственный план работ, взятые на себя повышенные соцобязательства по перевыполнению государственного плана, встречный план по перевыполнению взятых на себя повышенных соцобязательств; по плану работ СЭВ и по планам двухстороннего научно-технического и экономического сотрудничества. Вникнуть в суть всех обманов, переобманов и перепереобманов никакому профкому было не по плечу. По этой причине там королевой всех методов оценки деятельности оставалась её величество арифметика, позволявшая точно определить, у кого больше плановых позиций и позиций в разного рода обязательствах, и то подразделение, в котором их суммарное число оказывалось наибольшим, объявлялось победителем в социалистическом соревновании и в торжественной обстановке получало из рук «треугольника» (как уже почему-то геометрически именовалась совокупность советских правящих инстанций: дирекция, партийное бюро и профсоюзный комитет, управляющий местной «школой коммунизма») переходящее красное знамя, повышенную на десять или двадцать процентов (когда как), но все равно ничтожную премию, почетную грамоту, а фотографии особо отличившихся сотрудников помещались на доске почета, занимающей целую стену или специальный стенд в самом проходном месте предприятия или организации.
Изготовлением всей этой отчетной туфты надо было заниматься не менее, а даже более тщательно, чем собственно делами. Знакомясь с новой обстановкой в институте после почти пятилетнего отсутствия в нем, Михаил находил все новые признаки социал-бюрократического взматерения институтского треугольника – истеблишмента, который хотел выглядеть образцом в глазах райкома КПСС и действительно считался таковым, потому что в райкоме особенно ценили готовность выставить больше научных сотрудников для работы в «подшефной» овощной базе, которую трудно было считать чем-то иным, чем откровенным овощегноилищем, в «подшефном» колхозе Подмосковья, в скверах и садах района ради «озеленения города» летом, очистки тротуаров от бетонной прочности утрамбованного снега зимой, ну и, наконец, в райкоме учитывалось, насколько дисциплинированно выполнялась разнарядка из райкома, обязывающая выставить у столбов от номера такого-то до номера такого-то на улице такой-то по маршруту следования кортежа главы такого-то государства за час до его проезда. За безупречную работу по всем этим направлениям искусственно созданных трудностей в конце года лучшие руководители и лучшие из лучших рядовые работники удостаивались чести помещения их крупных фотографий на районной доске почета, а это давало шанс в конце года получить наградные наручные часы (именуемые на «новоязе» «ценным подарком»), а по завершению пятилетки орден Трудового Красного Знамени или Знак Почета. За кулисами всей этой в высшей степени профессионально развернутой в институте деятельности стояла секретарь партбюро бывшая заместительница Михаила Горского товарищ Лидия Анатольевна Басова. За ее активностью нетрудно было угадать вожделенную цель – заработать себе такую высокую репутацию в качестве образцового коммунистического организатора масс, чтобы ее, во-первых, заметили и ВЫДЕЛИЛИ среди ей подобных; во-вторых наградили бы орденом; в-третьих, сделали бы членом пленума райкома партии, а затем, возможно, третьим или вторым секретарем. Вот тогда она точно перейдет из того бессчетного множества лиц, которые всем должны и мало что получают сверх остронеобходимого для простого воспроизводства жизни в круг уже в определенной степени избранных, которые тоже кругом должны руководству более высоких уровней, но все-таки гораздо больше рядовых получают от системы и в виде денег, и в виде привилегий, будь то дачный участок, очередь на покупку автомобиля, обеспечение продуктами и дефицитными промтоварами из закрытых от масс распределителей и еще чего-то в том же роде, чего не хватает на всех. Басова по старой памяти была откровенна с Горским насчет всего, почему в райкоме институт находится на весьма высоком счету. Конечно, о своих личных планах и мечтах она не говорила ни слова, но ведь действительно существуют вещи, которые говорят о себе красноречивее слов, и это был как раз именно такой случай. Басова подробно объяснила расчетную основу каждой разнарядки, будь то направление на работу в подшефный колхоз или на овощную базу, на встречу иностранных глав правительств и государств, на дежурство в «добровольной» народной дружине, на обеспечение разного рода выборов штатом агитаторов и пропагандистов. Только за выполнение государственного плана перед административным начальством директор отвечал больше, чем секретарь партбюро, но все остальное в первую очередь лежало именно на секретаре, включая мероприятия по пересмотру и превышению планов. Басова по-прежнему заведовала отделом УДК. Её сотрудники сами исправно справлялись с рутиной по внесению дополнений и изменений в таблицы классификации, по изданию и рассылке бюллетеней с принятыми в Гааге изменениями.
Служебная работа очень мало беспокоила Лидию Анатольевну. Благодаря этому максимум своих сил она отдавала общественной деятельности, а, стало быть, в первую очередь себе. Правильный анализ социальной ситуации позволил ей в высшей степени грамотно выстроить свои приоритеты и подравнять под них свою жизнь. Это пока у нее вполне хорошо получалось.





