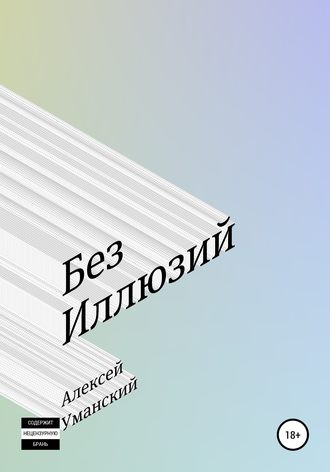 полная версия
полная версияБез иллюзий
Между тем Люсенька нравилась ему все больше и больше. Ему уже предметно виделось, как он начнет с ней новую жизнь в гармонии, о которой всегда мечтал и которой так и не добился в отношениях со своей женой. В возрасте между тридцатью и сорока он еще не так стар, чтобы опасаться не удовлетворить русскую красавицу, тем более, что он еще никогда в жизни не испытывал подобного мужского вдохновения при виде женщины, как это случилось с Люсей. Развестись с женой он готов был сразу же, без промедления, но это тоже требовало усилий и времени, а так нелегко было ждать, ждать и ждать! Добсон почему-то не сомневался, что Люсенька согласится выйти за него. У него прочное положение в обществе, удачная карьера до сей поры не ограничивала возможности дальнейшего роста, и в его силах было устроить Люсеньке у себя на родине такую жизнь, какой у неё наверняка не было бы в ее про́клятой всем остальным миром родной стране. Они бы могли на выходные путешествовать по Англии, Шотландии и Ирландии, да и по Западной Европе тоже, а в отпуск отправляться в какие угодно экзотические страны и места – в Индию, Индокитай, в Океанию, в Африку и ее кишащие живностью саванны, в Канаду и Штаты, наконец. Захочет посмотреть Австралию – будут ей и кенгуру, а Новую Зеландию – так маори и киви. И везде они будут со страстью отдаваться друг другу, везде их близость будет поднимать их над грешной и скучной Землей.
Михаил про себя соглашался с Добсоном, что Люся не устоит против его страстного и искреннего напора. Да и зачем ей сопротивляться? Что ей терять в СССР? Здесь ее мало что держит. Родителям, конечно, придется несладко. Антона Борисовича наверняка попрут с поста зам. директора, и ему нечего станет тратить на бегах. Наталье Антоновне будет совсем грустно – разве что будет выезжать время от времени в Англию по приглашению дочери, чтобы увидеть ее и, возможно, внучат. А большинство её друзей – евреи, и почти все они намылились эмигрировать в Израиль, на самом же деле – в Соединенные штаты. Люся прямо не спрашивала Михаила, посоветует ли он принять предложение Добсона, если таковое последует, но он понял, что Люся хочет знать.
– Люсенька, если он тебя устраивает, уезжай. Там все-таки более полноценная жизнь, чем у нас. Английский ты знаешь, языкового барьера перед тобой не будет. Боюсь только, английские власти не придут в восторг от того, что подданный ее величества настолько быстро подпал под чары русской дамы, что скорей всего ему подсунули опытную соблазнительницу из штатного состава КГБ. Его-то они точно будут досконально проверять, а тебя – как у них получится. Посмотрим, что из всего этого выйдет. И они посмотрели.
Достаточно скоро домой к Люсе пришел пакет документов из Британского посольства. Люся тут же вызвала к себе Михаила, и они тщательно просмотрели каждую бумагу. Мистер Добсон сдержал слово, данное Люсе. Это было официальное приглашение от его имени посетить его страну в любое удобное для нее время. В посольских комментариях к приглашению Добсона разъяснялось, что оно действительно в течение неограниченного времени (уж раз приглашают, так приглашают). Однако вопрос о ее выезде в Англию из СССР находится в компетенции советских властей.
Поскольку документы пришли по почте, нечего было сомневаться, что в КГБ их уже прочли. – «Что ты думаешь по этому поводу?» – спросила Люся. – «Думаю, в органах решат одобрить твою поездку, если ты согласишься выполнить какое-то определенное задание или вовсе станешь их сотрудницей.» – «Этого мне только не хватало,» – помрачнела Люся. – «А ты как думала? Им ведь дела нет до твоих удовольствий, они привыкли думать только о своих. Для них приятно и полезно заслать туда своего человека, особенно потому, что они вроде как ни причем – ведь это не их инициатива, а Добсона. Но если англичане узнают, что тебя пытались завербовать, их контрразведка наверняка устроит Добсону кучу гадостей – почти столько же или столько же, сколько их устраивает нашим гражданам родное КГБ в аналогичной ситуации. Разве только не посадят, как у нас, но мало ему все равно не покажется.
– Знаешь, ты был прав, – через неделю сказала Михаилу Люся. – Меня вызвали в районное управление к тому же Кухарю, о котором ты мне рассказывал. Все повторилось, разговор шел в том же кабинете под портретом основателя ВЧК. Очень любезно говорилось о заинтересованности органов в вербовке такой фигуры, как Добсон. За это, дескать, орден могут дать не только мне, но и им. За этим, в передаче Люси, произошел следующий диалог.
– «Таким образом, – спрашиваю Кухаря, – вы полагаете, что мне следует принять его предложение?» – «Да,» – говорит. – «Ну, а дальше что?» – продолжаю я. (Кстати, Миш, мне очень помог твой пример, когда ты с опережением высказал его мысли) – «Дальше? Вам поручат выполнение определенного задания.» – «Меня не это интересует, – говорю. – Меня интересует, что дальше будет со мной?» – «С вами?» – удивляется Кухарь. – «А то с кем же еще? – отвечаю. – Вы хотите, чтобы поехала к нему в гости в Англию непонятно в качестве кого? Он, как мне известно, женат. Мне предложения не делал, обещаний жениться на мне не давал. Зачем мне в таком случае ехать? Сама я к нему не стремилась. Быть в чужой стране на его содержании, когда я его почти не знаю – это, согласитесь, не очень прилично для советской женщины. Не думаю, что такое положение может устроить меня.» – «Людмила Антоновна, вы, пожалуйста, не торопитесь с выводами, – поспешил возразить Кухарь. – Вы вполне можете все спокойно и трезво обдумать. После этого мы снова с вами поговорим. До свидания,» – говорит. – «Всего хорошего,» – отвечаю. И ушла.»
Тот разговор Михаила с офицером районного управления КГБ по фамилии Кухарь, о котором упомянула Люся, состоялся месяца за два до ее посещения того же заведения. Однажды в коридоре института его остановила тогдашняя начальница первого отдела Валерия Петровна и вроде как вскользь сообщила: «Миша, с тобой хочет поговорить Кухарь из районного управления КГБ. Это рядом. Особняк в Скарятинском переулке. Зайди к нему.» Приглашение выглядело просто-таки по-домашнему. Валерия Петровна была в прошлые времена «кумой» в женском лагере, но эта служба не испортила ее до конца, и человечности она не растеряла. Почему-то она симпатизировала Михаилу. И именно от нее он впервые узнал, что мило улыбающаяся ему Мария Орлова говорит о нем очень нехорошие вещи директору Беланову. («Так что, Миш, смотри»). Не послушаться Валерии Петровны насчет визита к Кухарю не имело смысла – если тот хочет поговорить, все равно разговор состоится. Михаил без труда нашел особняк, мимо которого не раз проходил. Передняя дверь была заперта, но сбоку на косяке имелась кнопка звонка. Михаил нажал кнопку, но звонка не услышал. В ведомстве не любили, чтобы из принадлежащих ему домов доносились какие-нибудь звуки. Дверь открылась достаточно быстро. На пороге стоял относительно молодой человек в гражданском костюме, на вид не старше тридцати лет. – «Я к товарищу Кухарю,» – пояснил Михаил в ответ на немой вопрос. – «Проходите, – сказал человек, сделав шаг назад и пропуская Михаила вперед себя. – Я Кухарь. Вы, полагаю, Михаил Николаевич Горский?» – «Да, – подтвердил Михаил.» – «Очень приятно,» – удовлетворенно откликнулся Кухарь и открыл перед ним дверь в кабинет. Над столом хозяина кабинета висел внушительного размера портрет Феликса Эдмундовича – бессмертного духовного покровителя всех советских спецслужб, сколько бы их ни было: ЧК, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, КГБ – и проницательным взором упирался в глаза людей, оказавшихся в поле зрения органов.
Кухарь начал с того, что посетовал: не все граждане отдают себе отчет в том, что какие-то вещи не следует делать, поскольку это ни в интересах страны, ни в их собственных. Михаил слушал, не перебивая. Увертюра Кухаря пока ни о чем не говорила. Лучше было дать ему без посторонней помощи проявить свое намерение до конца. Внешне и внутренне Михаил был спокоен, даже не спрашивал себя, чем он мог провиниться перед конторой. С секретным делопроизводством у него был полный порядок ввиду полного отсутствия в его отделе секретных работ. Несанкционированных контактов тоже не существовало – до сих пор не возникало надобности даже в санкционированных. Кухарь тем временем продолжал. – «В такой обстановке имеет особое значение позиция всех членов общества, – в этом месте Кухарь слегка замялся, и Михаил неожиданно для себя самого любезно-безразличным тоном продолжил за Кухаря: в деле обеспечения интересов общества и его членов.» – Кухарь слегка опешил, но быстро просчитав что-то в уме, – подтвердил: «Совершенно верно.» Если это была прелюдия к вербовке, лучше было сразу дать знать офицеру госбезопасности, что он понимает, о чем идет речь. Встречное движение ловимых нередко настораживает ловящих в большей степени, чем поведение стремящихся убежать.
Кухарь в самом деле сменил пластинку.
– Вам знакома Валентина Михайловна Смиренина? – спросил он.
– Да. Она работала в моем прежнем отделе.
– Ну, и что вы можете о ней сказать?
– Как о работнике? Как инженер – достаточно слабый, хотя какие-то мелкие поручения способна была выполнять.
– Ну, а как человек?
В ответ Михаил только пожал плечами.
Валя попала в его отдел во время экстренного массового набора кадров, пока институту не прикрыли возможность заполнять свободные вакансии. Для начала он дал ей несложное самостоятельное задание. Когда же пришел срок предъявить начальнику результаты, Валя разыграла спектакль одного актера со слезами, словесным отчаянием – словом, со всем, что полагается по поводу того, что она вчера оставила материалы в троллейбусе и теперь не может их найти. На Михаила ее мастерство актрисы не произвело никакого впечатления. К тому моменту он уже ждал, что Валя будет пускать пузыри, в то время как внешне более образованные гурвицы, лернеры и фиши ухитрились проявить свое бессилие и неспособность даже раньше Вали. Зато он теперь точно знал, кто у него ни что не способен при выполнении своих штатных обязанностей.
– Насколько я знаю, она была не замужем, но с ребенком, – сказал Михаил Кухарю. В отделе вела себя довольно скромно.
Он мог бы сказать и больше, но не сказал. Однажды Валя объявила, что хочет отметить свой день рождения в ресторане. Сотрудники организовали складчину, и все отправились не куда-нибудь, а в «Берлин» (бывший «Савой»), где и провели время за едой, питьем и танцами. Пригласив именинницу на танго, Михаил понял, как Валя ждала этого момента. Как только они скрылись с Олиных глаз, она тесно прижалась к Михаилу, причем не только грудью, а больше лобком, и он почувствовал свое возбуждение. Однако Валя была ему ни к чему во всех отношениях, даже в этом, где она проявила вполне значимую компетентность.
Кухарь остался явно не удовлетворен таким ответом.
– Ну, а как женщина – что она представляет собой?
– Вы хотите спросить, способна ли она заинтересовать мужчину? Да, полагаю, что способна.
– Вам что-нибудь известно об этом?
– Только то, что в студенчестве у нее был роман с одним арабским студентом.
Говоря это, Михаил вполне отдавал себе отчет, что Кухарь прекрасно знает об этом. Как видно, вся беседа была затеяна ради того, чтобы получше и побольше узнать о Смирениной, дабы как можно более эффективно использовать ее в интересах госбезопасности.
На этом расспросы закончились. Провожая Михаила до дверей на выходе из особняка, Кухарь предложил заходить к нему, когда только понадобится. Михаил усмехнулся про себя и ушел.
Но об играх органов госбезопасностей он рассказывал Люсе не только эту историю. Другая по существу была знаменательней, а, главное, больше подходила к Люсиной ситуации.
– У нас с женой есть в приятелях одна пара. Алик студентом тоже влюбился в мою Лену. Мы, как выяснилось, ухаживали за ней параллельно. Он был славный мальчик – красивый, искренний, румяный, как девушка – и в то же время потомственный комсомольский и партийный работник – его отец был первым секретарем одного из райкомов в Подмосковье. Это и предопределило выбор специальности по образованию – ясное дело – марксистко-ленинскую философию. Там-то он и познакомился с Леной, она тогда уже аспиранткой была. Впрочем, и я тогда был еще студентом, правда, постарше, чем Алик. Его проигрыш в нашем невидимом друг для друга соревновании не испортил наших отношений, когда все выяснилось. Потом он со своей женой Люсей временами бывал у нас, а мы – у них. И Люся рассказала однажды занимательную историю о конкурентном взаимодействии спецслужб.
Люся, жена Алика – преподаватель одного из экономических ВУЗов – однажды собралась в туристскую поездку по Англии. На организационном собрании туристской группы ее предложили считать старостой группы (еще бы! Муж – секретарь Московского горкома комсомола, ей и карты в руки!). Возражений не было. Потом с ней, уже как со старостой, провел отдельную беседу товарищ из органов. Он строго конфиденциально сообщил ей, что в составе группы поедет некий гражданин Попов. На первом сборе группы, как помнила Люся, его не было. Так вот, на Попова не должны были распространяться правила, обязательные для всех остальных туристов: никуда без ведома старосты не отлучаться, не вступать в сепаратные контакты с англичанами или с кем-то, кто будет приставать еще – и так далее в том же роде. Люсе было сказано также, что Попов присоединится к группе только в аэропорту. Ну, а ей-то что? Присоединится – так присоединится. Кому надо – те в курсе.
Однако перед посадкой Попов в составе группы так и не объявился. «Выпускающий» группы дал знать Люсе, что так надо. Ну надо – так надо. Ей же проще без него. Ладно. Прилетели в Лондон, в Хитроу. Только спустились с трапа – тут же появились встречающие. И первый их вопрос – а где же товарищ Попов?
Передавая рассказ жены Алика Люсе Кононовой, Михаил с восхищением говорил ей о беспредельном взаимопроникновении агентов КГБ и Интеллидженс Сервис в структуры друг друга.
– Представляешь, Люсь, едва наши решили забросить в Англию агента под видом туриста, там своевременно узнали об этом. Как только они стали готовить агенту Попову теплую дружескую встречу, это стало известно у нас, и засылку Попова отменили. Правда, здорово, когда такие люди прямо-таки читают мысли друг друга!
В тот раз Люся посмеялась вместе с Михаилом. Но когда он сейчас, после Люсиного сообщения о визите к Кухарю, напомнил об истории с агентом Поповым (или не Поповым, а кем угодно еще), смеяться у них обоих уже не было никаких оснований. Если слегка экстраполировать историю с Поповым на всю практику информационной и агентурной борьбы двух величайших разведывательных служб, легко было предположить, что о попытке завербовать Добсона с помощью Люси станет очень быстро известно в Англии. И тут даже не так было важно, согласна ли Люся играть какую-то роль в этом деле, важно было уже то, что у КГБ существует такой план, а в таком случае англичане должны будут принять встречные меры. Какие? Да прежде всего привести в сознание влюбленного британского правительственного служащего, который мог незаметно для себя превратиться в информационную брешь в антикоммунистической обороне. Люся-то пока была для них недосягаема. А вот Добсон – другое дело. Он – под рукой. И если хочет продолжать оставаться главой информационной службы британской стандартизации, то должен будет поступать (или не поступать) как ему говорят в МИ-5 или МИ-6, но никак не иначе.
В скором будущем Люся, а с нею и Михаил, узнали, что все именно так и произошло. Из телефонного разговора с Добсоном Люся поняла, что он полностью раздавлен сознанием той несвободы, в которой он себя вдруг ощутил, всю жизнь полагая, что такое возможно – и конечно происходит – в России и где угодно, но только не на его родине, приучившей его гордиться тем, что он свободный, вполне свободный гражданин и член общества. И вдруг обнаружилось, что это не одно и то же для отдельного человека, что он всю жизнь ошибался и заблуждался. Одно дело воспринимать себя свободным человеком, ограниченным только в том, чего не допускает закон, а другое – оказаться членом общества, чьи интересы представляют не Смиты и Добсоны всей страны, а особо на то уполномоченные органы, которым плевать на его идеализированные самоощущения и самовосприятия себя в жизни Англии, и которые ничуть не собираются вести себя иначе, чем грубо беспардонные специалисты по искоренению крамолы в СССР.
Добсон сказал, что больше не является главой информационной службы. Люся не стала спрашивать, ушел ли он сам в знак протеста, или его «ушли» заинтересованные службы. Друзья нашли ему другую работу (хоть это можно было у них, где работодателей – миллионы, в то время, как у нас всего лишь один – родное социалистическое государство). Он сказал, что она по-прежнему может воспользоваться его приглашением, но обоим было ясно, что ей, как первопричине его служебной катастрофы, это будет теперь вовсе неудобно, не говоря уже о том, что у КГБ тоже пропал интерес к поездке Люси в Англию, а уж поэтому-то, то есть без пользы «для Родины», ее туда и не отпустят.
Люся не жаловалась, но на нее вся история произвела гнетущее впечатление. Снова лопнули только-только вспыхнувшие надежды. И с очевидностью стало ясно, что плохо бывает не только у нас, но и там, куда мы тянемся (или куда нас тянут) ради обретения личной свободы – той самой, которая нигде во всем многообразии типов многолюдных цивилизаций совершенно неосуществима и невозможна, что бы и кто бы об этом ни говорил.
Однако Люся была девушкой с характером, а потому и решила добиться хотя бы максимума возможного для себя дома, чтобы доступный образ жизни, наименее уязвляющий самоощущения и самооценку, стал реальностью. Она интенсивно работала над диссертацией и в процессе ее подготовки, рецензирования и доработки то тут, то там открывала для себя какое-то новое знание жизни и людей. Особенно впечатлила ее обязательная советская тупость при оценке деловых заграничных начинаний. Темой ее диссертации была система обеспечения качества продукции в Соединенных Штатах Америки. Так вот, директор института, при котором была ее аспирантура, не нашел ничего лучшего, чем высказать следующее: работа хорошая, но в ней не учтен положительный опыт советской системы борьбы за качество. Хоть стой, хоть падай! Наедине с Михаилом Люся одновременно с возмущением и со смехом говорила: – «О чем моя диссертация? Об Американской системе обеспечения качества. Какой рядом с ней отечественный опыт?» Миш, ну это просто бред – видеть то, чего не существует! Я раньше думала, что этот директор – неглупый человек, а он, оказывается, просто тупая жопа!»
Люся никогда не употребляла и не повторяла непечатных выражений за исключением случаев, когда они придавали наиболее точную, емкую и красочную образность описываемому явлению – как то, что высказал в своей больнице доктор Подосинников. -«Подумать только, – продолжала вспоминать, искренне смеясь, Люся. – Ебанный депутат районного совета! Надо же так сказать!» Но на сей раз она заклеймила директора собственными словами, и это свидетельствовало о том, что сделанное ею сравнение он вполне заслужил.
Когда Люся вышла на финишную прямую к защите и издала автореферат диссертации, Михаил получил его экземпляр с дарственной надписью, как человек, знающий о классификации всё. Это было несколько чересчур, но в целом соответствовало собственным представлениям Михаила относительно того, что помимо общеизвестного и известного немногим специалистам, он знал и кое-что еще совсем неизвестное другим, но его отнюдь не распирало от гордости. Блистательная, воодушевляющая многих идея какой угодно систематизации – моноиерархической, полииерархической, предметной и смешанной позволяла хорошо чувствовать себя своим создателям только до тех пор, пока они не начинали погружаться в пучину универсума знаний, где сплетенная по их проекту сеть начинала окутывать своих создателей, постепенно лишая их подвижности, пока не запеленывала их в сетный кокон.
После успешной защиты Люся сразу же перешла на работу в Институт США и Канады, где усилиями его директора Арбатова (кстати, однокурсника Михаила Петровича Данилова по МГИМО, только сделавшего куда более успешную карьеру, в том числе и в ЦК КПСС, после завершения учебы) и некоторых кураторов из этой высшей партийной инстанции было позволено – и даже предписывалось – делать выводы из исследований честно, без обязательной подгонки под идеологический, точнее – вульгарно-идеологический штамп. В определенных случаях некоторым звеньям огромной бюрократической машины, управляющей страной, требовалось знать, что вокруг нее происходит на самом деле, а не в легендах и мифах, создаваемых для использования в обиходе широких масс, у которых, однако, по ходу жизни в демагогической атмосфере, давно уже выработалось устойчивое неприятие скармливаемой им лжи.
Работать Люсе стало много интересней. Михаил еще раньше ее ушел из института, основанного Белановым, в новый научно-исследовательский центр межотраслевой информации с молодым директором Антиповым во главе. На пост директора он попал лишь по воле случая, а не в ходе долгих интриг или вследствие чьего-то мощного покровительства (или, как говорили в народе, благодаря чьей-то «волосатой руке»). Военно-промышленной комиссии (ВПК) захотелось, чтобы во главе нового центра встал действующий научный работник, доктор наук, компетентный в вопросах использования вычислительной техники, разумеется, член КПСС и возрастом не старше сорока лет. После поиска среди кадров министерства авиационной промышленности, которому ВПК поручила решать организационные вопросы по созданию центра, было обнаружено всего два кандидата с требуемыми свойствами. Антипова нашли более подходящим из этой пары и утвердили в новой для него руководящей должности. Со всеми претендентами на значимые посты в центре он разговаривал сам. В беседе с Михаилом наряду с другими вопросами Антипов задал ему и следующий: «Как понимать второй член в распределении Брэдфорда?» – на что Михаил честно ответил: «Не знаю.» – «И я не знаю!» – столь же честно сознался Антипов. Это был, что называется, вопрос на закуску, а не на засыпку, на все остальные Михаил отвечал уверенно, основываясь на вполне осмысленных собственных убеждениях. Так он стал заведующим сектора, но вопроса Антипова насчет распределения Бреэдфорда не забыл. Где-то в мозгу он постоянно напоминал о своем присутствии, и однажды Михаил осознал, какое именно явление – или лучше сказать – свойство реального практицизма лежит в основе вывода английского исследователя Брэдфорда. Брэдфорд задался проверкой одного вопроса: какая доля публикаций по определенной специальности находится в профильных, то есть полностью соответствующих ей периодических изданиях, какая доля – в тематически смежных изданиях, а какая доля – во всех прочих, куда, как правило, узкий специалист в поисках нужной информации и не подумает обратиться.
В результате своей работы Брэдфорд пришел к выводу, что о какой бы тематике ни шла речь, везде обнаруживалось следующее распределение публикаций: в профильных изданиях одна треть, в смежных изданиях еще одна треть, и в изданиях как будто не имеющих отношения к заданной теме – последняя треть. Причем, если совокупное число профильных изданий принять за единицу, то число смежных изданий будет уже в n раз больше, а число изданий номинально неподходящего профиля, но все-таки содержащих (подумать только!) опять-таки треть относящейся к теме информации, составит уже n 2, то есть соотношение между профильными, смежными и совсем непрофильными изданиями, в каждом типе которых находилась релевантная (относящаяся к делу) документальная информация, представляло собой следующую пропорцию: 1:n:n2 , где величина n могла варьироваться от одного тематического направления к другому в зависимости от величины информационных потоков по ним, то есть от числа работающих в них мыслящих людей, от значимости темы, в том числе и от моды.
И вот тут в голове у Михаила соединились две разные, то есть независимые друг от друга уже известные ему и извлеченные из информационной практики вещи: результаты распределения документов, прошедших индексирование по УДК в информационных фондах, по группам: легко индексируемым по УДК, когда документы получают простые индексы; легко подправляемым за счет использования дополнительных индексов УДК, когда индексы документов становятся составными; с трудом индексируемым документам, когда они получают сложно-составные индексы по УДК – и распределение публикаций по Брэдфорду. Везде, что там, что тут в каждой установленной группе содержалась как одна треть индексируемого в фондах документального потока, так и одна треть информации, публикуемой в журналах. Но ведь в обоих случаях речь шла по существу об одних и тех же информационных материалах: куда поступали журнальные статьи? В информационные фонды – куда ж еще!
Михаил понял, что закономерность, установленная Бреэдфордом, является универсальным индикатором не только для распределения публикаций по информационным издательствам и изданиям, а также для работ по индексированию, то есть в конце концов по распределению информации по рубрикам в информационных фондах. За этим стояло нечто более общее и присущее обычной практической деятельности людей. Михаил начал поиск и достаточно быстро углядел первооснову явления. Его рассуждения сводились к следующему. Не все окончившие высшие учебные заведения по определенной специальности находили работу именно по этой специальности в подходящих для этого отраслях. Тогда они устраивались либо в смежной отрасли, где могли требоваться специалисты именно их профиля, либо где-то еще, где их востребованность представлялась и вовсе случайной. Свои мысли, открытия, научные и технические предложения активно мыслящие люди желают изложить в статьях и опубликовать. Те, кто работают в профильной отрасли, направляют свои материалы в профильные журналы; те, кто работают в смежных отраслях тоже хотели бы опубликовать в тех же профильных журналах, но для той отрасли эти авторы – уже не свои люди, и им оказывается проще издать свои труды в тематически смежных журналах; а те, кто попал даже не в смежную отрасль, а куда подальше, становятся для профильных журналов совсем чужими авторами, и они, используя уловки в виде привязки своих специальных трудов к решению непрофильных проблем, публикуют свои работы черт-те где, то есть просто где получится. Иными словами, для деятельности любых организаций и отдельных лиц всегда характерно разделение (то есть первичное классифицирование) любых занятий, любой информации, любых материалов на три класса по характеру их собственного отношения к ним: первый – «родные», вполне релевантные, вполне соответствующие профилю их занятий, непременно необходимые; второй – смежные, «двоюродные», частично соответствующие профилю их занятий и нередко полезные; третий – все остальное, чужое, до чего данному субъекту, будь то организация или отдельное лицо, дела нет. Но когда дело доходит до обобщения всех коммуникативных отношений в обществе, до слияния всех частных и отраслевых информационных потоков в единый универсальный поток, к которому стремятся припасть и питаться из него все нуждающиеся клиенты, отовсюду высовывается для каждого потребителя – свое, смежное, чужое, то есть треть, и треть, и треть. Или Брэдфорд, Брэдфорд и Брэдфорд – кругом он, родимый – и оказывается, не только для своих англичан. И пусть он не сделал из этого философских умозаключений. Зато заставил всех признать, что:





