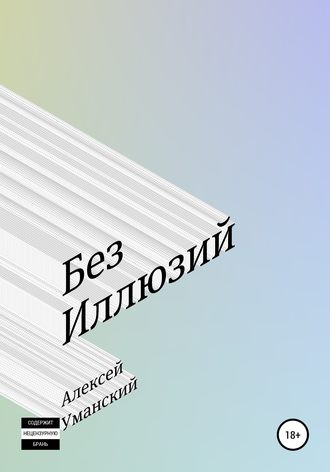 полная версия
полная версияБез иллюзий
– Александр Моисеевич, – сказал он, вытягивая вперед свою руку, как будто держал в ней трубку. – Они вам этого не простят!
Реакция на реплику Горского была мгновенной.
– Вот именно! – воскликнул оратор, потрясая своей реальной трубкой уже выше своей головы. – Вот именно! Вы совершенно правы: ОНИ мне этого не простят!
Пятигорский был очень доволен произведенным эффектом. Михаил и понятия не имел, что говорила мужу о своем начальнике его подчиненная Эля, но сейчас чувствовал, что Пятигорский доволен им, как слушателем, верно воспринявшим то, что он хотел передать аудитории. А вообще-то от Эли, вроде бы сдержанной и не очень заметной, можно было дождаться весьма нелицеприятных оценок. От Михаила Петровича Горский узнал, как она характеризует в целом преимущественно женский состав отдела: «Собрание недоёбанных баб». С Элиным суждением отчасти можно было согласиться, но говорить так обо всех Михаил Горский бы не стал. На его взгляд, Эля смешивала сексуальную неудовлетворенность некоторых со всеобщим недовольством жизнью вообще, когда все время женской жизни принадлежит то неинтересной работе, то утомительному стоянию в очередях за продуктами, то работе после работы у своей кухонной плиты вкупе с возней со стиркой в ванной комнате или с тряпкой и пылесосом в остальных помещениях. Отправляясь от Элиного выражения, правильней было по-другому характеризовать жизнь своих коллег, не придавая своим словам презрительного отношения – «собрание заёбанных жизнью баб» – и это было бы более честно и ближе к истине, причем не только в их отделе и институте, но и везде. Видимо, сделавшись миссис Пятигорской, она перешла в другую категорию дам – скажем, вполне доудовлетворенных в затронутом ею смысле деятельности – и уже свысока смотрела на других сотрудниц. Это следовало запомнить. Видимо, ее душа давно искала прочного положения в мире иных ценностей, а теперь она его получила и видела перед собой открытую дорогу, ступить на которую другим было не дано. Можно было радоваться за нее и вместе с ней. Случайно или не случайно, но ей повезло. Можно было и сочувствовать – за свою метаморфозу надо было платить своей свежестью, отдавая ее человеку, изрядно физически поиздержавшемуся, пусть даже очень интересному в других отношениях.
Или она не боялась, что сама в возрасте собственной женской зрелости рискует попасть в категорию недоёбанных мужьями баб, которых она уже презирала? Впрочем, о чем речь? Разве в последней трети двадцатого века привлекательной женщине трудно подобрать подходящего ей помощника своему мужу? Там, где был продемонстрирован цинизм в одном деле, можно было ожидать и его продолжения в другом. Ничто не ново под Луной. И если муж, Александр Моисеевич, в самом деле являлся философом, он должен был бы знать об этом наперед. Михаил Горский вполне допускал, что они трезво оценили друг друга и нашли себя взаимоподходящими для долгого или постоянного обитания в сферах, где склонный к театральности муж мог с блеском проявлять себя и где жена своим блеском помогала бы ему.
Другим близким приятелем Михаила Петровича Данилова был филолог и литератор, которого он называл «Борька Носик». Михаил Горский поначалу считал, что Носик – это несколько странное прозвище, но нет – это была фамилия. Ее носитель выглядел куда моложе Пятигорского, был красив, обладал хорошей шевелюрой и не хуже Пятигорского владел ораторским красноречием. В нем незаметно было особой склонности к позерству, но он несомненно любил производить большое впечатление на дам (ну, а, собственно, кто не хочет того же?). С ним была очень красивая и очень юная особа, вряд ли вышедшая из студенческого возраста. Так и оказалось – Вика была студенткой филфака МГУ. Борис Носик продлевал таким образом собственную молодость, и это ему хорошо удавалось.
В данном случае Михаил Петрович и его жена Элла Вольдемаровна принимали гостей вдвоем в собственной квартире, а не в квартире Данилова – отца. Горский знал со слов хозяина дома, что его жена – дочь красного латышского стрелка, сначала вознесенного на какую-то административную высоту советской властью, а затем ею же и репрессированного. Ради этой девушки с красивым и умным лицом Михаил Данилов после окончания МГИМО отказался от дипломатической карьеры. Министерство иностранных дел и думать не могло допустить, чтобы у атташе советского посольства в Австрии в супругах была бы дочь врага народа. Но если судить обо всем трезво и до конца, Данилов точно так же не подходил на роль советского дипломата, как ему не подходило такое Министерство иностранных дел, которое пыталось бы ему диктовать, на ком он может жениться, на ком нет. В стране, где даже министр иностранных дел не смел проявлять никаких собственных инициатив без согласования с не отличающимися ни образованностью, ни умом членами Политбюро ЦК КПСС, а особенно с потерявшим всякое чувство меры генеральным секретарем, нечего было и думать, чтобы кто угодно рангом пониже своего министра мог действовать творчески и рационально на дипломатическом поприще, а это абсолютно не соответствовало ни характеру Данилова, ни его представлению о том, как должна вестись дипломатическая работа. В его лице внешнеполитический орган страны потерял выдающегося аналитика, но, как водится в России, никто ничего такого не заподозрил.
Михаил не знал, когда Эллу Вольдемаровну скрутил сколиоз – до или после свадьбы, но она держалась очень достойно, показывая, что скидок на ее физическое состояние ей ни от кого не надо. Работала она архитектором. Горский, о котором она, вероятно, уже немало слышала от мужа, ей явно понравился. Это следовало из того, что она сразу попросила его называть себя просто Эллой без Вольдемаровны. Будущее подтвердило, что такую привилегию от нее получали далеко не все. Образно говоря, в ее семье это было такой же наградой, как при дворе французского или английского короля право табурета.
Надо думать, дочь врага народа за свою нелегкую жизнь навидалась немало советских начальников. То, как уважительно относился заведующий отделом к своему старшему по возрасту подчиненному – ее мужу – говорило о том, что он не из их числа. Когда Михаил Горский в ответ предложил называть себя только по имени, она отказалась, взглядом дав понять, что ей так будет удобней. На том они и порешили, и все дальнейшее общение протекало между ними естественно и легко.
В то время Михаил не знал никаких произведений Носика. Только лет через тридцать, когда Борис уже постоянно жил во Франции, в руки Михаила попали одна за другой несколько любопытных книг из серии «Истории русского Парижа». В них уже не с журналистской, а философско-исторической хлесткостью оценивались действия и предпочтения русских эмигрантов из разных слоев общества, выживавших и выживших в чужой и не очень ласковой к ним стране.
Да, она их не отвергала, не проявляла полного равнодушия, но и не зашла так далеко, чтобы активно помочь им натурализоваться. Впрочем, многие из них этого и не хотели, надеясь на то, что вот-вот рухнет ненавистный большевистский режим. Но безбожный режим тянул с родины щупальца и к ним – в Париж, в Ниццу, куда угодно еще, где только оказывались эмигранты из России, и соблазнял их деньгами, а также уговорами насчет помощи горячо любимой родине, служа ее интересам здесь, за рубежом, и многие соглашались становиться советскими тайными агентами, кто от отчаяния из-за нищеты, а кто и действительно от перевернувшегося в одуревшей голове патриотизма. Носик узнал сотни историй, его распирало от обилия материалов, в которых можно было почерпнуть массу интересного о любовных, политических и любовно-политических событиях, об атмосфере, в которой проявляли себя русские люди, кто в предательстве, кто в патриотизме, а кто и в том и в другом.
Упоение любовью у Бориса Носика с Викой длилось не очень долго. Во время еще одного сборища у Михаила Петровича Вика сидела с сердитым лицом и, если разговаривала с мужем, то только с помощью колкостей. Еще раз встретившись с Борисом у Даниловых, Михаил понял, что этой пары Носиков больше нет. Правда, это мало занимало Горского – просто ему лишний раз довелось убедиться, что сплотить даже полюбившихся друг другу людей в разновозрастном браке еще сложней, чем в браке между сверстниками, выросшими в одной атмосфере культурной среды и увлечений, автоматически становящейся их общим достоянием, как бы его ни оценивать – хорошо или плохо – все равно это неистребимый багаж сходных преодолений, сходных мечтаний, избираемых занятий, проявляемых чувств, отчего до их пор имеют ценность такие вещи, как обучение в одном классе школы, на одном курсе института или любого другого училища, что сохраняются и не выветриваются из памяти крупицы одной и той же конкретики бытия: не вообще в школе, а в десятом-б; и не просто в одном институте, а на одном факультете, в одной группе от первого курса до диплома.
Кстати, однажды Михаил Петрович познакомил Горского как раз не со своим другом, а однокурсником по МГИМО, сделавшим завидную карьеру. Это был Георгий Арбатов, которого Данилов при встречах и за глаза называл просто Юрой. Незадолго до момента знакомства Михаила Горского с этим «Юрой» тот был назначен директором только что образованного института Соединенных Штатов и Канады. В этом назначении сошлись две синхронно проявившиеся необходимости: необходимость детального изучения всех сторон жизни (а не только вооруженных сил и экономики) сильнейшего из вероятных противников на поле исторического соперничества в холодной войне; и необходимость пристроить на хорошую должность ценного, но слегка проштрафившегося слишком уж независимыми суждениями человека, а потому и бывшего, но все равно ценного помощника генерального секретаря ЦК КПСС.
В порядке извинения Арбатова избрали заодно академиком Академии Наук СССР – из этого факта явно можно было сделать вывод, что в ЦК считали принадлежность к аппарату, обслуживающему высшую власть в стране, более значащим фактом, чем приобщение к сонму официально наиболее признанных ученых страны. Несмотря на свои титулы и звания Арбатов разговаривал с Даниловым как с однокурсником и без малейшего неудовольствия воспринимал точно такое же обращение к себе со стороны Данилова. Впоследствии уже через Марину, которая также училась в МГИМО, и ее институтских коллег Михаил выяснил, что таков был не просто стиль, а фирменный знак этого элитарного учебного заведения, где дети вождей и верхушки дипломатического корпуса страны демократично варились в одном учебном котле с выходцами из рабочего класса и колхозного крестьянства, попавшими туда по направлениям от райкомов и горкомов партии и комсомола. Кем бы ты ни сделался после МГИМО, ты должен был из уважения к общему прошлому в альма матер вести себя так, будто ты остаешься на одной доске как с тем, кто вознесся выше тебя, так и с тем, кто застрял где-то далеко внизу, если, конечно, кто-то из сокурсников не стал деклассированным элементом или не попал в разведку агентом-нелегалом, которому категорически запрещено узнавать коллегу из реального прошлого, потому что он обязан придерживаться выдуманного жития, по легенде.
Оба Михаила – и Горский, и Данилов – считали себя в полном праве оставить институт Беланова-Панферова после того, как добьются утверждения концепции единой системы информационных языков. Отношение к ним со стороны руководства института было в лучшем случае безразличное, в норме – угнетающим, а то и оскорбительным. Поиск нового места работы обещал быть долгим делом, поэтому и искать его стали заранее. Когда Михаил Петрович узнал, что Юра Арбатов возглавляет институт Соединенных Штатов, он сразу представил, с какими объемами информации, причем на двух языках, придется работать этому институту. Без машинной обработки и автоматизированного поиска документов обойтись было просто нельзя, поскольку от подопечных Арбатова наверняка требовали очень быстрой реакции на текущие и ожидаемые события. Данилов поделился своими соображениями с Горским, и они решили, не откладывая дела в долгий ящик, предложить Арбатову создать необходимые языковые и программные средства для машинной реализации информационных задач. При этом они понимали, что придется искать и брать на работу людей, от которых будет зависеть, причем не меньше, чем от них самих, успех всего дела. Во-первых, им требовались со стороны толковые программисты – это казалось им разрешимой проблемой. Во-вторых, им были нужны лингвисты со знанием не только русского, но и английского языка. Данилов, правда, владел английским, хотя и без блеска, а вот для Горского это могло стать серьезным препятствием. Тем не менее, они решили рискнуть. Михаил Петрович договорился с Арбатовым о встрече по телефону. В назначенный час они предстали перед дирекцией института США и Канады.
Сначала Горский обрисовал их с Даниловым представление о характере проблем, которые непременно возникнут после развертывания деятельности института, и относительно путей их решения. Данилов дополнил его выступление тем, о чем считал нужным особо предупредить Арбатова – если они берутся сделать систему за три года, то надо соглашаться именно на три. Если будут настаивать на сокращении времени разработки, ничего не выйдет – людской массой, какой бы она ни была, дела не решить – тут есть ряд этапов, которые при всем желании выполнять параллельно не получится – многие вещи требуют последовательного решения вопросов одного за другим. В мире подобных систем ни у нас, ни за рубежом еще нет. Многие работы будут первопроходческими.
Арбатов и его заместители слушали, не перебивая, но по ходу дальнейшей беседы достали из карманов одинаковые пачки американских сигарет. Арбатов предложил гостям свои, но Горский вообще не курил, а Данилов отказался, предпочтя курить свои, хотя они были заведомо хуже американских. После нескольких просьб хозяев уточнить детали предлагаемых работ, Арбатов спросил, кто, по их мнению, еще мог бы взяться за создание такой системы. Михаил Горский вспомнил, что даже в американской практике, где фирмы дерутся за выгодные заказы, принято не скрывать от раздумывающего заказчика имена возможных конкурентов – пожалуйста, узнавайте, что они вам могут предложить, а потом решайте, чьи предложения вам больше нравятся и подходят. И он подавил в себе желание сказать: «Лучшего вам никто не предложит». – и назвал один из институтов в Перми, который в принципе мог бы взяться делать что-то подобное. Наблюдая за реакцией потенциальных заказчиков, Михаил понял, что не промахнулся – они явно слышали о Перми, а не то даже вели уже с ней практические переговоры. Кончилась встреча выражениями благодарности и обещаниями тщательно обдумать услышанное, а затем уж решить.
Выйдя на улицу, Михаилы поделились впечатлениями от увиденного и услышанного в институте США. – «По-моему, – сказал Горский, – они уже прикидывали про себя какой-то вариант нужной им системы. Не знаю, насколько наши соображения отличаются от их собственных, но думаю, что они несколько облегченно смотрят на решение проблемы, хотя и наш вариант несколько более оптимистичен, чем реально возможный. Как вы думаете, они уже вели переговоры с пермяками?» – «Вполне вероятно, вели. И знают, что пермяки имеют перед нами одно существенное преимущество: они уже имеют коллектив, который может решать все вопросы по данной теме, а нам его еще надо было бы формировать. Зная об этом, но не представляя себе реальные трудности, которые будут возникать то там, то тут, они скорей всего предпочтут пермяков.» – Помолчав, Данилов добавил: – А какое впечатление произвел на вас Арбатов?» – «Как деловой человек – в общем понравился. Мне кажется, он действительно заинтересован в том, чтобы сделать дело, а не создать видимость дела. Ну, а как о человеке вообще я о нем судить не берусь. Думаю, что пребывание в ЦК заставило его научиться скрывать собственные мысли и чувства. Хотя, если его оттуда выставили за непослушание, это кое о чем говорит в его пользу. А до какой степени он мог позволить себе оставаться принципиальным, откуда мне знать?»
Как показало будущее, Арбатов не очень спешил сделать выбор относительно разработчиков своей институтской информационной системы. Уже работая у Антипова, Михаил Горский узнал, что в институте США начали работать люди, которых Арбатов зачислил в свой штат и из которых Горский никого не знал. Что они спроектировали и осуществили, Михаилу тоже ничего не было известно, кроме одного – года через четыре или пять Арбатов ликвидировал у себя подразделение, которое должно было сделать систему.
Итак, служебные дороги Данилова и Горского разошлись. Виделись они после этого совсем не часто – на каких-либо заседаниях комиссии по созданию лингвистического обеспечения государственной автоматизированной системы НТИ, либо, еще реже, в частном порядке. Но когда через пять лет после фактического сближения Марина и Михаил решили официально оформить свой брак, и перед «женихом» встал вопрос, кого бы он мог и хотел пригласить со своей стороны в свидетели, никакая другая кандидатура, кроме Михаила Петровича Данилова ему в голову не пришла. Со стороны Марины все было проще – в свидетельницы она позвала Люсю – Людмилу Алексеевну Хабарову, с которой познакомилась на болгарском курорте и которая предложила Марине перейти из министерства медицинской промышленности на работу в центр Антипова – вот там именно Люся познакомила ее с Михаилом. Свадьба прошла скромно – ЗАГС, потом обед на квартире новобрачных. На память о том дне остались фотографии, которые штатный загсовский фотограф делал шаг за шагом по всей процедуре бракосочетания: жених и невеста, а затем свидетель и свидетельница расписываются в бумагах, жених надевает кольцо на палец невесты, молодые супруги целуются, дама из ЗАГСа говорит приветственные слова: молодые, свидетели и приглашенные пьют из бокалов шампанское. Итого было семь человек – пять женщин: Марина, ее подруга по МГИМО Галя, три сотрудницы Марины и Михаила в его секторе – Люся Хабарова, Лиля Быстрова, Вита Михайлова и два Михаила – Горский и Данилов. Вспоминать об этом дне, особенно перебирая эти фотографии, было приятно. И все же он стоял на втором месте после куда более памятного дня, когда они на самом деле стали одновременно любовницей и любовником, невестой и женихом, женой и мужем, не представляя себе дальнейшей жизни друг без друга. И именно тот первый день куда как ярче сидел в их головах, чем день бракосочетания, причем без всяких фотографий. Им было не до фотографирования, а кроме них, в квартире Нины Миловзоровой, давшей прибежище их любви, никого больше не было.
Нина, едва не ставшая год назад в походе по Северной Карелии любовницей Михаила, теперь, как бы возмещая причиненный ею урон его вполне правомерным ожиданиям и расчетам (как же – при живом муже отправилась с ним на байдарках вдвоем на целый месяц: люби – не хочу! – и вдруг не отдалась, а когда захотела, уже Михаил до того обозлился, что больше ничего от нее не желал) своим данным ему в руки ключом открыла дверь в самое-самое великое счастье, какое и в мечтах-то даже не представляется и не светит, не то, что бывает наяву, за что он продолжал нежно любить и Нину во все годы их с Мариной любви. А для Нины ее поход с Михаилом остался самым ярким впечатлением от красоты мира, погрузившись в которую хоть однажды, навсегда обретаешь уверенность, что ничего подобного человек не может ни создать своими силами, ни превзойти. Свои симпатии друг к другу, возникшие с первого дня знакомства Нина и Михаил никогда ни от кого не скрывали. Он называл ее «мой любимый матрос», она видела в нем своего надежного капитана. Время от времени они виделись. Иногда Нина приходила в гости к Марине и Михаилу, иногда они встречались у кого-то еще. С годами Нина пришла к философскому выводу, с которым всем заинтересованным лицам трудно было не согласиться. В том походе, где она честно собиралась отдаться Михаилу, а он законным образом этого ожидал, у них так и не было ожидаемой близости потому, что между ними стоял фантом Марины, которой они еще оба не знали, но чья кандидатура для союза с Михаилом уже была предопределена на Небесах. Обычно Нина с искренней радостью откликалась на звонки Михаила, но однажды она отреагировала довольно холодно. Ответив на приветствие, она с априорной отчужденностью, будто ожидая неприятных для себя домогательств или уверений, спросила: «Ну, и чему я обязана?» – «Дорогая моя, – почти в тон ответил ей Михаил, – сегодня ровно двадцать три года, как ты дала нам с Мариной ключ от своей квартиры». Нина охнула и сразу стала обычной прежней: «Ой, Миш, неужели уже двадцать три? Вот время летит!» Она искренне радовалась тому, что помогла им в самом начале пути к счастью, хотя и не скрывала: «Я думала, что будет обычный роман – знаешь, один из тех, которые видишь на каждом шагу, а оказалось!..»
А потом к тем двадцати трем годам прибавлялись новые – еще, и еще, и еще. Михаилу исполнилось тридцать семь лет, когда они с Мариной полюбили друг друга. Теперь они достигли уже середины восьмого десятка лет. Но все равно у них это был возраст любви, полноценной любви во всех отношениях. И Нина оказалась у истока без преувеличения полноводной реки их счастья, причем почти как ангел с ключом от рая в руках.
Собственная жизнь Нины представлялась ей не очень удачной. С мужем, которому она собиралась изменить в Карельском походе с Михаилом, она все равно вскоре развелась. Какие-то мужчины у нее, конечно, были, но, говоря о них, она только отмахивалась рукой, произнося: «А-а, это так!…» – явно не дорого ценя их роль в своей жизни. Но характер ее от этого не изменился – она как была, так и осталась жизнерадостной, открытой, искренне любящей повеселиться женщиной, которой всегда можно верить, потому что она не интригует и не хитрит. Прямота даже с примесью какой-то наивной простоты, по-прежнему украшала ее индивидуальность как одна из главных ее черт. Михаил, да и Марина тоже, желали ей обрести свое счастье, но это, видимо, только в очень малой степени зависело от них.
В тот короткий период времени между правлениями Михаила Данилова и Люды Фатьяновой, когда отделом командовал Александр Бориспольский (то есть до момента появления Сионской звезды на манжетной запонке в стенгазете), Саша успел завершить одно важное дело: обеспечить типографское издание проекта Данилова, Влэдуца и Горского, определяющего состав, устройство и функционирование единой системы информационных языков. Честно говоря, Михаил Горский не ожидал, что Саша все-таки проявит в таком виде благодарность к людям, которые не мешали ему идти своим путем, заниматься собственным делом, когда они могли и в некотором смысле должны были помешать ему делать личное дело в ущерб государственному.
Михаил Горский даже предположил, что Саша вообще сознательно решил искупить грех выпуска в свет откровенно халтурной (по выражению Московича) диссертации и взялся зарабатывать себе честное имя в научной работе. А что? Это бы совсем не повредило ни его репутации, ни вообще тому делу, где он почувствовал себя, наконец, сто́ящим профессионалом. С Людой Фатьяновой ему также повезло. Затрачивая много времени на представительские дела и на работу секретарем партийной организации в направлении классификации, она с удовольствием переложила большую часть своих обязанностей по научному руководству делами отдела на Бориспольского, а тот и рад был постараться – наконец перед ним открылось широчайшее поприще, как огромное поле, на котором он по собственному выбору, почти без ограничений, мог возделывать любую культуру. Быть агрономом на поприще прикладной лингвистики – задача не их легких. Сколько бы ни восхвалялись роль и успехи программистов в решении проблемы создания машинных информационных систем, работающих с произвольными текстами, главные трудности содержательного характера все равно выпадало преодолевать именно лингвистам, хотя в этом мало кто отдавал себе отчет как среди программистов (что было естественно, исходя из их гонора, но не из осознания действительного положения дел), так и среди подавляющего большинства начальников, которые совсем не отдавали себе отчет в том, что такое язык вообще, а главное – в том, что языковые объекты принадлежат к числу самых неподдающихся административному произволу и вообще чьему-либо волюнтаризму. Можно вводить в обиход начальственные «новоязы», коверкая привычный смысл слов и искажая их значение прямо до противоположности, как это блистательно продемонстрировал в романе «1984 год» Джордж Орвелл, но подчинить себе встроенный в мышление людей инструмент, обеспечивающий перевод любых образов в речь и текст, не способен никакой начальник и вся королевская рать – язык относится к настолько фундаментальным категориям людского бытия, что от его неощущаемой, неочевидной на беглый взгляд, но буквально абсолютной власти не может уклониться никто – он подавит любую революцию, растворит и превратит в практическое ничто любую идею, идущую вразрез с языковой традицией, могущей воспринимать только частные, ограниченные реформы, не задевающие ни синтаксиса, ни основного словарного состава (чаще всего слегка реформируются правила записи тестов с целью добиться сближения письменной речи с устной).





