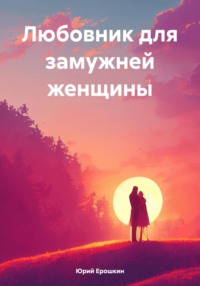Полная версия
При советской власти
Позже Илюша узнал, что дед и отец Костика воюют, бьют фрицев, а его дядя погиб ещё в сорок первом под Москвой. Как погиб и Трофим Колупаев, а жена его, теперь уже вдова, вернулась в деревню к престарелым родителям. И их комнату как раз и занял новый друг Илюши со своей мамой, так как прежний их дом немцы разбомбили. Под останками его были погребены родители Тони, дедушка и бабушка Костика.
Тайком от мамы Илюша бродил по городу и раскрыв от удивления рот смотрел на не виденные им прежде грузовые троллейбусы «ЛК». Буквы эти означали имя и фамилию важного партийца – Лазаря Кагановича. Такие троллейбусы, кроме всего прочего, перевозили дрова, уголь, муку.
В некоторых магазинах, куда он заходил, всё ещё висели плакаты с инструкциями, как использовать подмороженные или замороженные овощи.
Конечно, это было более актуально для зимы сорок первого года, когда женщины, чтобы спасти детей от голодной смерти, проникали на заваленные уже снегом подмосковные поля и, рискуя быть застреленными – линия фронта зачастую проходила в нескольких метрах, – собирали остававшиеся ещё кое-где под снегом капустные листья или редкие клубни подмороженной картошки. Картошку «оживляли», отмачивая в холодной воде, а затем варили прямо в «мундирах».
Совсем же смелые или скорее отчаявшиеся женщины, особенно многодетные, пробирались чуть ли не вплотную к месту боёв, и под градом пуль отрезали куски тёплого ещё мяса от убитых лошадей.
За счастье почитали картофельные очистки, из которых делали оладьи или суп, добавляя к очисткам подмороженные капустные листья и конину, у кого она была, сдабривая это варево щепоткой соли.
Всего этого Илюша, разумеется, не знал, просто слышал от тех, кто в то тревожное время оставался в Москве. А когда узнал, то подумал, что в деревне у бабушки Нюры он питался намного лучше и даже пресловутый ревень вспоминал теперь без прежнего отвращения.
И тут же перед его мысленным взором почему-то представала Верка, её горькие слёзы, которые она проливала сидя на краю крапивного оврага. И Илюше опять сделалось стыдно за содеянное, и он дал себе клятву, что как только пойдёт учиться, то обязательно напишет Верке покаянное письмо.
Учиться он вскоре пошёл, но письма так и не написал…
8
Для рядового и сержантского состава поставили в центре деревни походно-полевые палатки; офицеры разместились по хатам. Григорию Митричеву, лейтенанту, досталась крайняя, у леса с мрачной на вид и неразговорчивой хозяйкой, пожилой женщиной в синем платке, завязанным на лбу небольшим крепким узелком. Митричев, мешая русские и польские слова, терпеливо объяснял, что определён к ней на постой.
– Разуме, пани? – спросил слегка растерявшийся Гриша, так как хозяйка ничем не показывала, что поняла его.
Выручил ротный Пухов, явившийся очень кстати.
– Ну что устроился? – поинтересовался он.
– Да вот никак не договоримся.
– Ну-у… – усмехнулся Пухов. Он толкнул ногой ближайшую к нему дверь – за нею оказалась небольшая, опрятная комнатка, – с порога бросил вещмешок Митричева на кровать с тремя, уложенными одна на одну подушками и, обернувшись к хозяйке, хмуро смотревшей на ротного, сказал ей громко, как глухой. – Лейтенант будет жить здесь. Поняла, старая?
Митричев виновато посмотрел на неё, как бы извиняясь за бесцеремонность своего приятеля.
…Вернувшись домой после дневных занятий по военной и политической подготовке, Гриша застал пани Кристину за колкой дров. Было очевидно, что работа эта ей уже не по возрасту, она с трудом поднимала тяжёлый топор, после каждого удара хваталась за спину.
– Давайте я, – предложил уставшей старушке свои услуги лейтенант. Поймав на себе её недоверчивый взгляд, повторил, широко по-мальчишески улыбнувшись. – Давайте, мне ведь это легче.
Наколов дрова, Гриша сложил их у сарая под навесом. Когда он, подняв с земли гимнастёрку и портупею, направился к хате, на пороге его ждала пани Кристина с кувшином в руке и чистым полотенцем, переброшенным через плечо.
– Дзенкуе бардзо, – поблагодарила она, и это были её первые слова, обращённые к лейтенанту за те почти две недели, что он жил в её хате.
Гриша стал помогать пани Кристине по хозяйству. Поправил завалившейся заборчик, залатал подручными средствами кое-где прохудившуюся крышу, таскал воду – колодец был на другом конце деревни. Пани Кристине очень полюбился этот простой русский мальчик-офицер с румянцем во всю щёку, с тёмным пушком над верхней губой. Может быть, пан Гжегош, как она называла его на польский манер, напоминал ей кого-то из её родных, живых или отошедших уже в мир иной?
Она почти с материнским усердием хлопотала вокруг него, подкладывала ему лучшие куски, стирала и штопала некоторые его вещи, не ложилась спать, пока он не являлся домой. Нередко они чаёвничали и хорошо разговаривали: оказалось, что пани Кристина не только понимает, но и неплохо говорит по-русски.
…Торжественный вечер в честь бойцов Красной Армии и советско-польской дружбы состоялся в кирпичном одноэтажном здании чем-то неуловимо напоминавшем наши деревенские клубы, но – лучше, основательнее. С импровизированной трибуны представители местной власти выражали признательность своим освободителям, благодарили, обещали всегда помнить, какой ценой была завоёвана их свобода.
С ответным словом выступил комполка Носов. Потом были танцы под патефон. Митричев со своим другом Женькой Пуховым, появились, когда веселье было в полном разгаре. В помещении было душно, распахнутые настежь в осеннюю свежесть окна не спасали. На небольшом пространстве одновременно могли танцевать полтора – два десятка пар, остальные в ожидании своей очереди, жались по стенам.
Среди ожидавших острый взгляд Женьки Пухова приметил обворожительную панёнку, пухленькую блондиночку, с алыми губками, с голубыми глазами. Её окружали какие-то штатские, среди которых выделялся коротконогий толстячок с огромными залысинами. Толстячок держал понравившуюся Женьке женщину под руку и, слегка улыбаясь, что-то негромко говорил ей. Впрочем, Женьку это не остановить, ни смутить не могло. Тонкие, как стрелы Амура усики его зашевелились, глаза загорелись азартом и он, оправив гимнастёрку, ринулся в атаку.
Раздвинув могучим плечом окружавшее блондинку «паньство» и пробасив: приглашаю, пани! – Женька взял её за руку и повёл, не дожидаясь её согласия. Опешившее от такой бесцеремонности «паньство» молчало, а пани сделав несколько безвольных шагом вслед за своим неожиданным кавалером, попыталась было вырвать руку из его руки, но Женька, казалось, и не заметил её слабых потуг. Затем легко и красиво закружил её в танце, попутно обрушив на прекрасную пани лавину комплементов, используя при этом весь свой запас польских слов. И хотя запас этот был невелик, дело своё они сделали. Пани Малгожата стала всё ласковее поглядывать на Женьку, голубые глаза её заволокла романтическая дымка, маленькие ушки порозовели от удовольствия…
Протанцевав без передышки три танца и окончательно разомлев под напором Валькиных комплиментов, пани Малгожата вдруг поймала на себе злой взгляд коротышки с залысинами. С алых губ её тотчас же слетела ласковая улыбка, лицо приняло испуганное выражение. И как только музыка кончилась, она заспешила к недовольно взиравшему на её флирт с русским «паньству», категорически не позволив Пухову себя проводить.
Коротышка, разгневанный легкомысленным поведением Малгожаты, резко выговаривал ей что-то, она смотрела виновато, робко оправдывалась, но её оправдания видимо не возымели на коротышку должного действия. Более того, разошедшись, он принялся размахивать руками перед прелестным личиком пани Малгожаты, рискуя ненароком задеть его. Женька, конечно, не мог допустить, чтобы обижали понравившуюся ему женщину.
– Да я тебя на ноль помножу, пся крев! – выругался Пухов и, несмотря на то, что Гриша Митричев, пытался его удержать, ринулся на защиту блондинки.
Подбежав к коротышке, он взял его за грудки, поднял и выкинул в раскрытое окно. Раздались крики, женский визг, Женьке кто-то врезал по уху. Повернувшись, он ответил коротким справа; противник, некто в гражданском, рухнул со стоном на пол. Завязалась драка, в которую постепенно включились едва ли не все участвующие в вечере советско-польской дружбы. И лишь когда кто-то пальнул пару раз в воздух, дерущиеся поостыли и прекратили свалку.
Утром выяснилось, что коротышка был каким-то важным лицом, а блондинка, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, оказалась его женой. Женьке влепили трое суток ареста. (Хотели больше, да наступление вот-вот должно было начаться). А комполка Носов лично просил извинения у польских товарищей за недостойное поведение своего офицера. Конфликт кое-как замяли.
В первый же день после освобождения с «губы» Женька вместе с дружками – Гришей Митричевым и артиллеристом Петром Засеевым отправился к престарелому пану Журавскому пить пиво. Завидев ещё издали дорогих клиентов, пан Журавский стал выпроваживать из своего заведения местных любителей янтарного напитка, чем вызвал их явное неудовольствие. Многие уходить не желали, требовали ещё подать им пива, на что пан Журавский резонно возражал:
– Эти три русских пана за час выпьют больше, чем вы все вместе взятые за неделю!
А про себя старый торговец наверняка прибавлял не без приятности, что и платят они щедрее, швыряют злотые, не считая!
Часа через три, выпив всё, что оставалось в закромах у пана Журавского, офицеры, пошатываясь, ушли, пообещав завтра нагрянуть вновь.
Однажды, возвращаясь ближе к полуночи домой, Митричев был кем-то обстрелян. Упав в грядки – он шёл картофельным полем, – лейтенант нащупал на боку кобуру и, достав пистолет, пальнул в ответ несколько раз. Услышав через некоторое время, что со стороны деревни бегут, голосом предупредил, что здесь он: в кромешной темноте этой могли по ошибке подстрелить и свои.
– Что стряслось, лейтенант? – услышал Гриша знакомый голос ротного. Поднимаясь и отряхивая грязь, объяснил, что.
– Ну, дело обычное, – сказал Пухов, но всё-таки скомандовал взводу подойти к лесу и дать несколько очередей вглубь его.
Встревоженная ночными выстрелами пани Кристина стояла на пороге с лампой в руке.
– Иезус Мария! Вы живы, пан Гжегош! – обрадовалась она.
– Только испачкался, – по-мальчишески широко улыбнулся Гриша.
Когда вошли в дом, она тихо сказала:
– Не ходьте так поздно един, то опасно.
…Гриша проснулся от какого-то скрипа. Открыл глаза и замер. В двух шагах от него стоял человек в широком и длинном плаще, через плечо у него висел немецкий автомат, дуло которого было направлено прямо на лейтенанта. Кобура с пистолетом висела на никелированной спинке кровати, но Митричев понимал, что не успеет, не только расстегнуть её, но даже пошевелиться. Ну, вот и всё, тоскливо подумал он, мысленно попрощавшись и с Тоней, и с сынишкой. Во рту у него пересохло и почему-то захотелось… квасу, того, довоенного, из бочки, что стояла в Москве на Сретенке возле кинотеатра «Уран». Хоть глоточек, хоть полглоточка, молил он кого-то, словно именно от этого зависела теперь его жизнь.
И тут в комнату со всей доступной ей прытью, вбежала запыхавшаяся пани Кристина в ночной рубашке, с всклокоченными седыми волосами. Встала между незнакомцем и Митричевым, заслоняя последнего от дула автомата. И начала что-то говорить, говорить… Пши, пши, пши, – такой слышалась быстрая польская речь лейтенанту. Он не понял ни слова, догадался только, что жизнь его зависит от того, сумеет ли пани Кристина в чём-то убедить этого с автоматом. И она видимо сумела. Незнакомец бросил ей что-то недовольным голосом, но убрал автомат под плащ и поспешно вышел из хаты.
Митричев не сразу осознал, что опасность миновала, что он остался жив. Со лба по виску сбежала крупная капля пота… Но уже через минуту он вскочил, выхватил из висевшей на никелированной спинки кровати кобуры пистолет, но пани Кристина остановила его, загородив собою двери.
– Не можно так, пан Гжегош, не можно! – она умоляюще смотрела на Зубцова.
– Это ваш сын? – догадался лейтенант.
– То не мой сын, – грустно ответила пани Кристина, – то несчастный чловек…
Звали «несчастного чловека» пан Мариуш, он был одним из тех польских офицеров, которые в октябре тридцать девятого, после вступления Красной Армии на территорию Польши, оказывал ей вооружённое сопротивление. Силы были, конечно, не равны, слабые части польского войска были разгромлены. Пан Мариуш, тяжёлораненый, попал в плен и провёл в советских лагерях более двух лет. Потом всё-таки ухитрился бежать, вернулся в Польшу, в родные места, где узнал страшное известие: немцы расстреляли его жену и десятилетнего сына. С тех пор он мстит и немцам и русским.
– Как же вы убедили его не стрелять в меня? – выслушав пани Кристину, спросил Гриша.
– То не вы его враг, – вздохнув, сказала старушка. – Вы простой чловек, как и он, вы свой…
В эту минуту под раскрытым окном что-то хрустнуло, Митричев, всё ещё держа в руке пистолет, подскочил к подоконнику, на котором стоял горшочек с геранью. Высунувшись в окно, он успел заметить чью-то тень. Тень метнулась к невысокому заборчику, перемахнула
его и растаяла в ночи. Митричев не стал стрелять, переполох был сейчас ни к чему. Пришлось бы объяснять, что здесь произошло.
Вот тебе и свой, подумал он, и тотчас же припомнил, как несколько дней назад его обстреляли на картофельном поле. Теперь стало ясно, кто.
– То не пан Мариуш, – словно угадав мысли своего постояльца, уверенно заявила пани Кристина. – То не он.
Митричев пожал плечами и промолчал. Он закрыл на шпингалет окно, задёрнул ситцевые занавески.
– Давайте спать, пани Кристина.
Под утро Митричев был арестован. Допрашивавший Митричева холёный, пахнувший одеколоном майор из СМЕРШа, спросил:
– Так почему наши враги называют тебя своим, лейтенант?
9
У школы, где стал учиться Илюша, осталось только три стены, четвёртой не было. Но стояли они довольно крепко и учителям разрешили вести занятия до тех пор, пока районные власти не подберут какое-то новое больше подходящее для занятий помещение.
Ещё до войны кирпичи, из которых собрали школу, были белого цвета, а теперь они сделались серые, даже седые, как пряди волос у мамы Илюши. Это было очень печальное зрелище, и даже страшное. Но ещё страшнее казались разбитые здания красного кирпича, они словно кровоточили, моля о помощи…
В школу Илюша ходил вместе с Витькой Макаровым, парнем из соседнего дома. Он был на четыре года старше Илюши, но они дружили на равных. За равного себе Витька стал считать Илюшу после истории с голубятней.
Витька сделался хозяином голубятни после того, как настоящий её хозяин, семнадцатилетний Колька Кравцов сбежал на фронт. Илюша не понимал, почему все осуждающе говорили, что он «сбежал»? Словно он какой-то заключённый. Он же воевать пошёл! Он был вполне уже взрослый человек, а взрослые люди должны защищать свою родину! Его обещали найти и вернуть, но не нашли и не вернули.
Ну а с Витькой дело обстояло так.
Однажды он гонял голубей на своей голубятне, а Илюша со своим новым другом Костиком Митричевым любовались их полётом. Голуби у него были надо сказать знатные: сизокрылый почтарь с острым клювом и небольшой гордо посаженой головкой, короткоклювый турман синего окраса и николаевский, задиристого вида голубок с мускулистой, выдающейся вперёд белой грудкой. Были и другие птички, попроще, штук восемь-десять. Илюше особенно нравились те, кто при взмахе крылышек открывали свои ослепительно белые грудки.
Под Витькин оглушительный свист – свистел он лихо, сунув в рот пальцы, – они стремительно поднимались в небо, делали несколько кругов вокруг голубятни и вновь возвращались к своему жилищу. Дав им некоторый передых, Витька вновь залихватски свистел, точно соловей-разбойник и голуби вновь поднимались ввысь.
Костик смотрел раскрыв рот и мечтал тоже погонять голубей и непременно научиться так же лихо свистеть, как это делал Витька.
Стоя с запрокинутой вверх головой, Илюша не заметил, как рядом с ним очутилась Валька-вундеркиндша. Так окрестили её родители, гордые тем, что их дочка не по годам развита и может строить очень сложные и учёные фразы такие, что даже взрослые порой удивлялись и восхищались. Ребятня тоже представить себе не могли, откуда она знает такие учёные слова, но кличку её подхватили и повторяли к месту и не к месту всем двором, сначала вообще не понимали, что это слово означает или понимали лишь приблизительно.
Кличку, впрочем, быстро перекроили, и получилось смешнее – «киндервудка», что особенно нравилось Витьке, потому как очень походило на «вутку», то есть «утку».
И вот эта самая Валька неожиданно оказалась рядом с Илюшей и Костиком. Вопреки своему интеллигентскому воспитанию она решила-таки одним глазком взглянуть на голубятню, о которой все пацаны во дворе взахлёб рассказывали. И на голубей, конечно, уж больно они были красивые.
Витька, заметив ее, заорал на весь двор:
– Ёлки-палки! Киндервудка явилась! Как вы решились к нам, неотёсанным?
Валька обижено поджала и без того тонкие губы и отошла на три шага от голубятни – она ведь была культурная.
– Такого слова нет, я ведь тебе уже объясняла.
– Есть, есть, просто ты его не знаешь! – возразил Витька.
Валька пожала плечиками.
– Этим ты только расписываешься в своём бескультурье, – сказала надменно.
– Я не расписываюсь, это начальники расписываются, вроде твоего отца! – Витька за словом в карман никогда не лез.
Валька хмыкнула и гордым шагом направилась к дому.
– Киндервудка пошла к себе в будку! – вдогонку ей крикнул Витька и торжествующе засмеялся.
Илюша мысленно похвалил его, молодец, Витька, давай, давай, у него были свои счёты с этой девчонкой. Они были ровесники, но она ходила уже во второй класс, а Илюша только в первый: в деревне, где он прожил почти все военный годы, не было школы. А в соседнюю, где школа имелась нужно было идти верст двадцать.
Валька остановилась у дверей подъезда, обернулась и посмотрела на Витьку.
– Нет, ты никогда не научишься правильно произносить это слово. Хотя бы потому, что оно немецкое! – гордо произнесла.
Это было как гром среди ясного неба. Что, что она сказала? Немецкое? Одно упоминание о чём-то немецком вызывало у ребят ненависть. И даже Костик, ничего, впрочем, ещё не понимавший и тот насупился. А Илюша – тем более, ведь они убили его отца! И вдруг эта девчонка так открыто заявляет, что это слово – немецкое! Да как говорит-то, чуть ли не с гордостью.
У Илюши сжались кулаки.
– Немецкое-е… – протянул Витька и сплюнул сквозь зубы. – И ты этим хвалишься? Ах, ты… – и он выдал такое ругательство, что, наверно, умудренные жизнью мужики и те позавидовали бы.
Тут растворилось окно Валькиной квартиры – они жили на втором этаже, – и её бабушка крикнула:
– Валя! Сию минуту иди домой! Почему ты разговариваешь с невоспитанными мальчиками?
Валькину бабушку звали Аркадия Владиславовна. Выговорить это имя-отчество никто из ребят не мог, а имени Аркадия в женском варианте вообще никто из них никогда в жизни не встречал. Эта Аркадия Владиславовна всегда сидела у окна, когда Валька выходила во двор, смотрела за ней, однако открывала окно и что-то говорила только в крайних случаях. Сейчас был именно такой.
– Иду, бабушка, – сказала Валька, но уходить явно не спешила.
Услышав спокойный Валькин голос, Илюша опять весь закипел. Так и хотелось отвесить этой паршивой всезнайке оплеуху. Но он помнил наставления своего двоюродного брата Сашки о том, что женщин бить нельзя. Но ведь Валька никакая ещё не женщина и вдобавок гордится тем, что знает немецкие слова!
Илюша понимал, что должен был что-то сделать. И он надрывно выкрикнул:
– Фашисты! – но при этом посмотрел на Витьку, словно искал у него поддержки, может он выдаст ещё какое-нибудь скабрёзное словечко? Но Витька молчал.
– А ты совсем глупый, – как-то разочарованно сказала Валька, посмотрев на Илюшу с жалостью. – Запомни, не все немцы – фашисты. На немецком языке говорил Шиллер.
Боже мой! Она уже тогда слышала о Шиллере! Прошло лет десять, а может быть и больше, прежде чем Илюша узнал, кто это был такой. Но что делать, о нём разговаривали в её семье, а мама Илюши с утра до вечера трудилась на фабрике, и ей некогда было говорить с сыном о Шиллере.
Неизвестно, чем бы вся эта словесная перепалка закончилась, но упоминание о Шиллере спасло дело. Мальчишки не знали, кто он такой и с некоторой робостью притихли. И Витька, и Илюша, как потом они признались друг другу, подумали: а что если это какой-нибудь соратник Эрнста Тальмана, который бьётся за свободу всего человечества в фашистских застенках? Может быть, этот неизвестный ребятам Шиллер – простой рабочий человек, как был отец Илюши или отец Витьки?
А насчёт того, что Валька и Аркадия Владиславовна фашисты, Илюша, конечно, погорячился. И ему опять сделалось совестно, как тогда, когда он обидел Верку…
Не нужно было так-то, они ведь обычные наши соседи, только вот почему-то недружелюбно настроены по отношению к нам, подумал Илюша.
Валькина бабушка между тем сообщила через открытое окно, что только хулиганы гоняют голубей – Аркадия Владиславовна была до невозможности культурная, она даже носила пенсне.
– Вовсе нет! – с возмущением воскликнул Илюша, а Витька, сидя на голубятне, только головой покачал: ну и сказанула старушка, промолвил себе под нос.
Валькина бабушка накинула на плечи шерстяной платок и спустилась во двор. Культурность не позволяла ей вести разговор через окно.
– Голуби – переносчики инфекции, – безапелляционно заявила она каким-то дребезжащим голосом.
– Ерунда! Никакой от голубей заразы нет! – возмутился Витька.
– Бабушка сказала не зараза, а инфекция, – поправила Валька.
– Заглохни, инфекция, – грубо оборвал её Витька.
В новом, более крупном поединке Валька как-то потерялась, сникла и всегда знающая что ответить, теперь вдруг растеряно молчала. А Илюше почему-то показалось, глядя на неё, что ей ужасно хочется сбросить с себя маску благопристойности, залезть на голубятню и лихим свистом, как у Витьки, погонять голубей…
Он и сам не понял, почему ему вдруг такое почудилось. Впрочем, почти сразу он и забыл об этом, услышав неприятный, дребезжащий, может быть от старости, голос Аркадии Владиславовны:
– Валентина! Ты же видишь, что эти мальчики – настоящие хулиганы. Иди сейчас же домой, незачем здесь оставаться.
А сама почему-то вновь принялась объяснять Витьке, что голуби очень грязные птицы.
– Глупости! – Илюша не выдержал её разглагольствования, и смело прервал старушку.
Те самый красавцы синим оперение, с ослепительно белой грудкой, которая открывается в полёте и так завораживает и грязные?! Ну и дура же ты, киндервудкина бабушка!
– Почему ты так грубо разговариваешь с взрослыми? – возмутилась она.
– А потому что голуби не грязные! – ответил Витька. А Илюша добавил: – И от них совсем никакого вреда нет, а только польза. Голуби связные, они переносят военные донесения!
– Вот и прекрасно, – спокойно протрещала Аркадия Владиславовна. – Пусть их в таком случае и возьмут для нужд армии. А здесь у нас не фронт, а тыл, но и здесь нет времени для забав. Твоя мама целыми днями напролёт работает на фабрике, а ты в это время нет, чтобы учится прилежно, гоняешь голубей! Сегодня же поговорю со старшим по дому, и пусть их куда-нибудь заберут, и хулиганства меньше будет и заразы всякой!
И она повернулась и ушла. Наверно, действительно пошла к старшему по дому.
– У него других дел нету, чтобы вашим глупостям потакать! – крикнул ей в след Витька и насмешливо пожелал успеха в этом кляузном деле.
Валькина бабушка остановилась и строгим взглядом поверх пенсне посмотрела на Витьку. И тот, кажется, малость струхнул, но вида не подал.
– Какие грубые невоспитанные мальчики! Как беспризорники! Дети улицы! Я напишу в райотдел, для вопроса о хулиганстве всегда найдут время.
Валькина бабушка была интеллигентная, но склочная. Она очень любила писать разные жалобы, как и все интеллигенты. Илюшиной маме, например, заниматься такими вещами было некогда: она работала.
Обращаться тогда в райотдел было делом бесполезным. Это все понимали, как, впрочем, и сама Валькина бабушка, и потому она вновь заговорила своим дребезжащим голосом, что сейчас, когда идёт такая война, нет времени для забав и места для хулиганства, об инфекции, которую якобы разносят голуби, о дурном влиянии улицы и ещё раз пригрозила походом в райотдел. Она не кричала, она говорила отчётливо и неторопливо и этой своей отчётливостью и неторопливостью раздражала ещё больше.
Когда же, наконец, окончила свою речь, Витька назло ей свистнул что было сил, и голуби взмыли в высокое, синее небо.
– Ах, безобразие! Издевательство! Никакого уважение к старшим! – запричитала Аркадия Владиславовна. – Ничего слушать не хотят, ничего им не объяснишь, хулиганам! Так я сама справлюсь с этой голубятней!