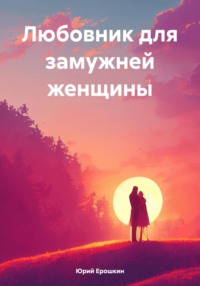Полная версия
При советской власти
– Ты что? – тоже готовый рассмеяться спросил он её.
– Наверно никто и никогда не выслушивал предложение в ванной комнате!
Гриша, чуть склонив голову, прошептал девушке на ушко, розовую мочку которого украшал маленький бриллиантик:
– И никто, под стук в дверь оставшихся с носом ухажёров, не получал согласия на своё предложение… Слушай, давай объявим им всем сейчас, что мы жених и невеста? Представляешь, какие рожи будут у твоих кавалеров!
– Нет, нет, не вздумай! Пусть это будет пока нашей маленькой тайной.
Родители Тони благосклонно отнеслись к намерению дочери выйти замуж. И выбор её одобрили. А вот Алёна к решению сына создать семью отнеслась по-другому, посмотрев на это дело с практической точки зрения.
– А жить-то вы где собираетесь, здесь? – и она обвела глазами их крохотную убогую комнатушку, где обитало семейство Митричевых. – И на какие средства? На твою почтальонскую зарплату? – Гриша в ожидании летнего поступления в авиаучилище устроился на почту разносить письма и телеграммы.
Слова матери опустили молодого человека с небес на грешную землю. Об этих вещах он как-то совсем не задумывался, не говорили они об этом. И её родители ни о чём таком не обмолвились. А ведь его мать права, особенно в отношении жилья. У них жить невозможно. А у Тони… У неё, конечно, условия шикарные: своя комната. Но как на это посмотрят её родители? Снять где-нибудь угол – это был единственный вариант. Но, как и где это можно было сделать, Гриша понятия не имел. Да и наверняка нужны будут деньги. А у него их не было, мизерная зарплата почтальона в счёт не шла.
Тоня тоже призадумалась, когда он поведал ей о поджидающих их на первых порах семейной жизни трудностях.
– Какой ты у меня умный, – с неподдельным восхищением посмотрела она на своего жениха, немного даже смутив его. – А я вот не догадалась ни о чём таком подумать. Правильно мама говорит, что я ещё очень беспечная… А ты молодец, – ещё раз похвалила она Гришу. – Как и полагается быть мужчине и главе семьи.
Гриша не стал вдаваться в подробности того, как умные мысли эти пришли ему в голову. Зачем рушить тот пьедестал, на который вознёсся он в глазах любимой девушки? А она, помолчав немного, сказала, что одну проблему можно считать решённой.
– Жить мы будем в моей комнате. И не возражай, пожалуйста! – видя, что Гриша нахмурил брови, заявила она. – Мои будут только рады. И мама, и папа в тебе души не чают, ведь ты спаситель их единственного ребёнка! И потом, ничего другого нам просто не придумать.
Гриша не мог не согласиться с этим, но для порядка поупрямился, после чего дал себя окончательно уговорить.
Но если жилищная проблема была молодыми худо-бедно решена, то материальное обеспечение будущей семьи целиком ложилось на Гришины плечи. И хотя Тоня намекнула, что родители им непременно помогут, он высказал свое категорическое «нет» и так резко, что девушка не стала настаивать.
Отказаться от попытки поступить в авиаучилище Гриша и думать не хотел. Даже если бы об этом его попросила Тоня. Он для себя раз и навсегда решил, что жизнь его будет связана с армией, с авиацией. Ох, если бы не эта его проклятая рана! Кстати, тех бандитов, судя по всему, так и не изловили. Товарищ Обжигов из милиции ещё пару раз беседовал и с ним, и с Тоней и, наконец, оставил их в покое, объявив, что при необходимости вызовет обоих. Но такой необходимости не возникало вот уже третий месяц.
Однако всё это было для Гриши в прошлом, теперь его заботили совсем иные вещи.
Известие о скорой свадьбе старшего сына ничего коренным образом не поменяло в семействе Митричевых, всё шло своим чередом. Пётр, оклемавшись от тяжкого отравления, которое нет, нет, но давала о себе знать болями в желудке, устроился не без помощи своего дружка Трофима Колупаева на его прежнее место ветфельдшера в конном парке артели «Мостранс». И хотя машины уже вытесняли с московских улиц привычных прежде извозчиков, последние ещё кое-как держались.
Алёна по-прежнему трудилась контролёром в Самотёчных банях, а Павлик, окончив школу, поступил на завод «Серп и молот», ожидая скорого призыва на армейскую службу, чему не скрывая, завидовал его старший брат.
Павлик, кстати, подсказал Грише отличную идею: устроиться на какой-нибудь авиазавод. Там и оплата не в пример почтовой, что ему, как будущему мужу должно быть не безразлично. И, возможно, работая там, будет легче поступить в авиаучилище. Гриша, не ожидавший услышать от младшего брата столь мудрый совет, чуть не до боли сжал его в объятьях и даже расцеловал, что между братьями принято не было: не по-мужски это.
Желая поделиться радостной новостью с Тоней, Гриша сразу после обеда, наскоро приготовленным Алёной – у неё была большая стирка, – побежал к ней на Петровку.
Идею Павлика она одобрила, но сказала, что на такой завод устроиться, наверно, не так- то просто. Тем более, когда у тебя нет соответствующей специальности.
– Вот учился бы ты в каком-нибудь техническом институте… – сказала она, внимательно посмотрев на сидевшего напротив Гришу.
– Опять ты со своим институтом, – поморщился он, вскочил с дивана и подошёл к окну.
За окном завывала февральская метель, кидая с какой-то неистовой злобой пригоршни снега в оконное стекло, точно проверяла его на прочность.
– А что? Был бы авиаконструктором, как Лавочкин, например. Разве это плохо?
– Нет, это не плохо, но это не моё. Моё дело – летать, – Гриша твёрдо знал, что он хочет в жизни.
– Ну что ж, – согласилась Тоня. – Поступай на завод. А на какой, ты уже решил?
Возвращаясь от Тони, Гриша думал и о ЦАГИ и об основанном пару лет назад Артёмом Микояном конструкторском бюро, где они вместе с Михаилом Гурвичем уже создали первый советский истребитель МиГ-1. Вот бы стать лётчиком-испытателем и летать на таких машинах, мечтал Гриша. И он решил первым делом попытать счастья у Микояна. А не получится – тогда штурмовать ЦАГИ.
Сокращая путь домой, он храбро шёл полутёмными двориками, не боясь напороться на местную шпану. В своих силах он был уверен, и даже не прочь был испытать себя в какой-нибудь лихой драке. Но только честной, без ножей и кастетов. Наученный горьким опытом, он знал теперь, что главное в драке – не пропустить кого-нибудь себе в тыл, лучше всего встать спиной к стене и тогда можно отмахаться и от двух нападавших и даже от трёх. И он даже стал выглядывать в попадавшихся на пути тёмных подворотнях объект для возможного конфликта. Но дорогу ему никто не преградил. Навстречу попадались отдельные люди, даже иногда группки молодых людей, но никто агрессивности по отношению к Грише проявлять не собирался.
На Цветной бульвар он вышел сквозь ту самую арку, где ему несколько месяцев назад подло всадили нож в спину… С того рокового дня он не был здесь. Мимо проходил не раз. Но внутрь её не заглядывал.
Ничего особенного он и теперь не ощутил. Постоял немного, огляделся. По краям арки наметены были высокие сугробы, посередине шла хорошо утоптанная тропинка. И фонарь, висевший при входе, по-прежнему делил пространство под аркой на светлый и тёмный треугольники.
Стоял он недолго. Метель здесь бушевала ещё настырнее, швыряя крупными горстями в лицо Гриши колкие снежинки. Какая-то барышня, свернувшая было под арку, отшатнулась, увидев тёмный силуэт неподвижно стоявшего мужчины, круто развернулась и выбежала вон. Гриша усмехнулся, поднял воротник пальто и, чуть наклонив голову, пошёл навстречу ветру, который задул сильнее, точно собирался не выпускать парня из-под арки.
На другой день после работы Гриша отправился устраиваться в конструкторское бюро Микояна. Но ни туда, ни в ЦАГИ, куда ходил днём позже, его не приняли. Разнорабочие этим организациям не требовались, нужда была в специалистах, в первую очередь инженерах-конструкторах. А за плечами Гриши – только десять классов. И даже чертить он толком не умел: а в конструкторском бюро имелась вакансия чертёжника. Так что одной любви к авиации оказалось недостаточно, чтобы устроиться на эти предприятия. Нужны были знания, специальные навыки, которыми Гриша не обладал. И если бы не Тоня, как могла утешавшая от постигшей неудачи, он совсем бы раскис. Тем более что неудача эта отодвигала на неопределённый срок дату их свадьбы.
И вновь младший брат нашёл выход из положения. У них на «Серпе и молоте» требуются ученики сталеваров и вальцовщиков. Зарплата, пусть и не высокая, но стабильная, и с устройством проблем не будет.
– Я словечко скажу кое-кому, – покровительственно заявил Павлик, глядя на старшего брата.
– И специальность надёжную в руках иметь будешь, – согласился и отец.
Алёна тоже посчитала, что работа на заводе теперь – самое разумное для Гриши. Ну а тому и выбирать было не из чего. Сталевар, вальцовщик – всё едино. Но авиация от него всё равно никуда не денется. Летом он вновь будет поступать в авиаучилище. И поступит наверняка: врачи, наблюдавшие его, давали обнадёживающие прогнозы.
Свадьбу Тоня и Гриша сыграли в конце мае, через год, 1 июня, у них родился первенец, наречённый Константином.
А спустя три недели после этого радостного события началась война…
7
Отец Илюши Шмакина с войны не вернулся.
Нюра получила треугольный конверт из серой шершавой бумаги – похоронку, где её извещали о том, что гвардии сержант Прохор Александрович Шмакин…
Она не плакала, не кричала в голос, она порвала похоронку и тихо, не издав не единого звука, упала на пол. А когда несколькими минутами позже очнулась, возле неё уже хлопотали обеспокоенные соседи, Нелли Сергеевна, ещё зимой сорок первого года въехавшая в комнату умершей старушки Кожуховой, и Арон Моисеич, лысую голову которого украшал седой хохолок на темечке.
Впрочем, он тоже собирался эвакуироваться, но в последний момент храбро передумал, чему в немалой степени способствовала листовка, найденная им во дворе. Там нацарапаны были мерзкие стишки следующего содержания:
Дорогой товарищ Сталин!
Мы Москву бомбить не станем,
Полетим мы за Урал,
Где ты всех жидов собрал.
– Почему же всех! – всплеснул руками Арон Моисеич. – Я же здесь! А мой сын воюет! – После чего, помолчав, с горечью добавил: – И это нация музыкантов, поэтов, философов… Боже ж мой, куда катится этот мир!
Только эти двое, да ещё Алёна Митричева со снохой и внуком и оставались из всей большой квартиры, остальные разъехались кто куда.
Обо всём этом Илюша узнал много позже, от Нелли Сергеевны, когда она однажды вечером пригласила мальчика в гости в свою комнату.
Впрочем, приглашала она его частенько, особенно когда Нюра оставалась ночевать на фабрике: смена там начиналась уже в 6 утра, а работали порой до полуночи и дольше, потому возвращаться домой не имело смысла.
У Нелли Сергеевны Илюша впервые попробовал чудесный напиток – какавеллу, которая готовилась из отходов, образовывавшихся при производстве какао. Кто-то из бывших её учеников, она прежде преподавала в школе русский язык и литературу, угостил её, она – Илюшу. Обжигаясь, он с удовольствием пил из большой фарфоровой чашки с синим ободком, и смотрел на висевшую над диваном фотографию в золочёной рамке, на которой был запечатлён пышноусый человек в кожаной фуражке со звездой – муж Нелли Сергеевны, комиссар, погибший ещё в Гражданскую. Нелли Сергеевна больше замуж не вышла и с тех пор жила одиноко. Детей у неё не было.
Но это было потом, а пока Нюра отправила сына в деревню, находившуюся в Свердловской области, откуда была родом и где до сих пор проживала её мать, бабушка Илюши.
Перед самой войной Нюра Шмакина окончила Ивантеевский трикотажный техникум и стала работать на фабрике «Красная Заря» помощником мастера по вязальному оборудованию. Фабрику тоже собирались эвакуировать, но в последний момент приказ об эвакуации отменили, а фабрику перевели на выпуск военной одежды для бойцов Красной армии. И она осталась в Москве.
Война не затронула деревню, однако дыхание её чувствовалось повсюду. Самым старшим из мужчин, остававшихся ещё в деревне, не считая, конечно, стариков, был шестнадцатилетний Сашка Зудин, двоюродный брат Илюши. Он работал в кузне и был очень солидный, совсем, как взрослый мужик. Работал от зари до зари, не дрался, не хулиганничал и для всех пацанов был авторитетом.
Мелюзга вроде Илюши и меньше годами вечно голодная, разыскивала стебли ревеня и, несмотря на то, что от кислоты сводило скулы, объедалась ими до боли в животе. У этого растения съедобны только стебли, а Илюша, расхрабрившись, пихал в ненасытный рот свой и листья, хотя пацаны предупреждали, что делать этого нельзя, можно отравиться. Но он не послушал, вследствие чего попал в руки местного фельдшера Викентия Павловича, пожилого человека с печальным лицом. Он давал Илюше какие-то пилюли, чтобы мальчишка не так сильно дристал.
Оклемавшись через пару дней, Илюша решил, что более к этому проклятому растению в жизни не подойду и на пушечный выстрел. Но – голод не тётка…
Праздник наступал, когда бабушка пекла лепёшки, это были самые счастливые для Илюши дни. В лепёшках, кажется, тоже был ревень, но после них не болел живот, и он испытывал сытость. Если бы есть их каждый день, то ничего другого и не нужно было. Вот только бы ещё не приставала эта соседская дылда Верка Замарёнова…
Она была всего на год младше Сашки, но такая дурёха-а! И говорила всё какие-то глупости непонятные, и сама же смеялась.
Илюша привык вставать рано, смотрел, как занималась заря. Потом начинали мычать коровы, стадо которых гнали по центральной улице к пастбищу. Бабушка уже тоже была на ногах и занималась хозяйством. Илюша выбегал во двор, босоногий, шлёпал по утренней росе, блестевшей в лучах поднимавшегося солнца. Наведывался он и в огород, там можно было что-то найти получше, чем ревень.
И вот в одно из таких светлых утр, Верка вдруг высунула из-за плетня своё круглое, загорелое лицо.
– Дай мне свою морковку! – сказала и загоготала непонятно почему.
Вот ещё чего выдумала, удивился Илюша! Чего это ради он должен давать ей свою морковку? У неё тоже есть огород и там тоже растёт такая же морковь. Но и жадным в её лукавых глазах мальчишке выглядеть не хотелось…
Хоть бабушка и запрещала вырывать морковь, пока она не подрастёт, но он всё-таки вытащил одну небольшую, и подал её Верке. Девчонка, пока он выбирал для неё морковку, нагло перелезла через плетень и её толстые ноги уже торчали перед сидевшим на корточках Илюшей.
Он поднялся от грядки, протянул ей морковку, но она не взяла её и вновь загоготала:
– Маленькая у тебя, паренёк, морковка, не выросла ещё!
– Дура ты, – сказал Илюша со злостью и для большей убедительности добавил: – И ноги у тебя, как у слона!
А она всё почему-то гоготала и гоготала, дурёха такая!
И всё-таки в тот раз он на неё не сильно обиделся. А то, что отругал её, так это ж для порядка. И ещё хотел сказать ей, что через пару недель его морковка будет большая-пребольшая, пусть тогда она приходит. Но Верка, отгоготавшись, тотчас убежала, и он не успел высказать ей своё великодушное предложение.
Зато вечером было куда как хуже. Илюша встретил Сашку у кузни, и они вместе возвращались домой. Илюше завидовала вся пацанва. Каждый мог поздороваться с Пашей, он бы даже руку свою сильную, как у настоящего мужика, протянул, не зазорно ему это было. Но пройти с ним вот так же запросто, как шёл он, через всю деревню, не мог никто другой.
Шли неспешно, разговаривали и вдруг навстречу – Верка!
– Здорово, Саш, покажи свой карандаш! – крикнула и опять заржала, как кобыла.
Это было уже слишком. Она задирала Сашку, которого все в деревне уважали! Для неё, похоже, не существовало никаких авторитетов. И чего ржёт, дура такая? Подумаешь, стих сочинила! Тем более глупый-преглупый. Таких-то и он мог, сколько хочешь насочинять: Верка-перебзделка, например. Смешно разве? Но он же молчал, он понимал, что так нельзя, а она…
И решил Илюша объяснить ей по-хорошему, что Сашка не художник и даже не бухгалтер, а работает в кузне и потому никакого карандаша у него быть не может. Но самое обидное было то, что Сашка никак не ответил ей на это, устало ухмыльнулся только и прошёл мимо. И Илюша решил сражаться с этой дурёхой один. И за себя, и за брата.
Он целый вечер думал, как отомстить Верке за её насмешки, и на другой день встретил её в компании подружек, весёлых, расфуфыренных, словно войны не было. Они собирались идти на танцулки в клуб. Тут Илюша при всех и сказал Верке, что она дура, и что ей только палец покажи она смеяться станет, а смех без причины – признак дурачины. Вот! Илюша был доволен собой.
– А ты покажи палец-то свой, нам посмотреть уж больно любопытно, какой он у тебя, – вдруг сказала Верка, и уже все девки разом загоготали.
– Показывай, паренёк, а то мы сами посмотрим! – пискнула ещё какая-то дурёха, вроде Верки.
– А вы все дуры, дуры, дуры! – он чуть не заплакал от отчаяния и оттого, что не смог найти более веских слов, чтобы окоротить беспричинный смех этой оравы.
И тут вдруг Верка возьми и крикни:
– А ну, девки, сымай с него штаны!
Илюша, испугавшись, прытко отскочил в сторону и, подняв комок земли, залепил им в Верку. И победно сплюнул сквозь зубы, подтянув на всякий случай штаны.
Девки сперва завизжали, отпрянули, но тут же, опомнившись, налетели на него гурьбой. Илюша извивался, как угорь, но они всё-таки повалили его, закатали обе штанины до колен и прошлись по икрам жгучей крапивой, да так что он после того ещё пару дней чесал да расчёсывал ужаленные места. Когда они, наконец, пресытились своей победой и отпустили мальчонку он, отбежав на некоторое расстояние, вновь запустил в них комьями земли, а ещё нашёл в себе мужество пустить им вдогонку, что они все глупые девки.
Но победителей такие мелочи не волнуют, они только посмеивались в ответ, а он поплёлся домой, сгорая от стыда, что его так отделали девчонки. Пожаловаться на них Сашке, он не смел. Да и что толку? Он же Илюше уже говорил, что на женщин поднимать руку нельзя.
Он был как всегда прав, но ведь женщина женщине рознь. Такая, например, как Верка ничем не лучше фашиста. Конечно, это Илюша сказал в сердцах, с явным перехлёстом, но такая уж у него злость на неё была, что просто жуть!
Вот вся пацанва Илюшу в деревне побаивалась, потому что он Сашкин брат. Хоть он их не трогает, но ведь может и наподдать, если они вдруг стали бы Илюшу обижать. А девкам он наподдать не может, они это знают и не боятся, переживал Илюша. Из-за того, что он такой благородный и справедливый, Верка позволяет себе называть его Сашенькой. А он ничего на это не возражает, совсем ничего, молчит и улыбается. А какой он ей Сашенька! Ясно, что ведёт он себя как серьёзный взрослый мужик, но лучше всё-таки, чтобы он задал ей взбучку, охолодил маленько эту дурёху.
Бабушка, конечно, всё заметила, пришлось ей сказать правду. Она чем-то помазала ноги внука и усмехнулась:
– Вот, не воюй с девками нашими, а то они изловчатся и навовсе с тебя штаны сымут!
Бабушка попала как раз в точку: именно это Верка и хотела сделать. Но всё-таки не смогла, не дался он сотворить над собой такое. И уразумев это, почувствовал себя, чуть ли не победителем и гордо заявил бабушке:
– Пусть только попробуют. Они у меня наглухо пришиты.
Штаны не были пришиты тем более наглухо. Но было у них такая масса завязок каких-то, подтяжек и тесёмок, что он порой плохо понимал, а как их вообще-то снять можно. Иной раз, набегавшись за день, он так и падал в них на постель, не в силах раздеться.
Целую неделю Илюша обдумывал, как отомстить этой проклятой Верке, следил за нею украдкой. И узнал, что каждое утро она рано-рано бегает к реке купаться. Он стал вставать раньше, когда и петухи ещё спали, дожидался, пока появился Верка. Осторожно из-за укрытия следил за нею и вскоре вызнал её обычный маршрут к реке. Она шла огородами, потом спускалась по тропинке с косогора, сворачивала у самого оврага и, скидывая на ходу одежду, сбегала к реке.
В овраге, у которого Верка сворачивала, росла крапива. Была она уже высокая, с толстыми стеблями, болезненно-жгучая. И глядя на нее, Илюша понял, что врага нежно бить его же оружием.
И вот однажды утром, когда ещё только заря занималась над лесом, побежал он к оврагу, прихватив с собой верёвку, вбил на некотором расстоянии друг от друга два колышка и крепко, что было сил, натянул эту верёвку в высокой траве над оврагом, пока Верка плескалась в воде. Потом осторожно подкрался к реке.
Веркина одежда лежала на бережку, и Илюша подумал даже, что в придачу ко всему прочему нужно утащить и её. Однако Верка уже собралась выходить из воды, и своё намерение он не осуществил. Ладно, с одеждой он её подловит в другой раз, злорадно подумал Илюша.
Он притаился за толстым стволом раскидистой ветлы и стал ждать, предвкушая сладостный миг отмщения.
Всё было как обычно, Верка оделась, поднялась по тропинке, затем свернула к оврагу. Она не глядела себе под ноги и, зацепившись за веревку, полетела вниз, только пятки засверкали!
Вскрикнула она, ещё только падая, не понимая, конечно, как это она умудрилась упасть там, где никогда прежде не падала, что такое могло вдруг приключиться? Вскрикнула от испуга, наверно, от неожиданности. А потом донёсся её тихий стон…
Вскоре Верка выбралась из оврага, легко было увидеть, что едва ли не вся она ошпарилась злой крапивой: и лицо, и шея, и руки, и ноги. Она присела на краешек оврага, обхватив плечи руками. По щекам её текли слёзы. Вдруг она заметила верёвку, оборванную уже, взяла её, посмотрела с недоумением, словно никак не могла взять в толк, откуда она здесь? Спустя пару минут, видимо, поняла…
И всё её тело затряслось в беззвучном плаче. Она смотрела на верёвку и всхлипывала, не злилась, не ругалась, а только всхлипывала. Она не могла понять, кто и за что её так невзлюбил? Впрочем, возможно, и догадывалась…
Илюша отомстил, а радости, какую ожидал, почему-то не ощутил. Напротив того, Верку было даже жалко немного. Сидит она такая несчастная, обняв себя за плечи, и плачет беззвучно. Казалось, Илюше было бы легче, если бы она ругалась в голос, кричала, а она – молча плакала.
И на эти её катящиеся по розовым щекам слёзы мальчику было больно смотреть. Он уже едва ли не раскаивался в содеянном. Действительно, зачем было так с ней поступать? Он хотел уже даже выйти из своего укрытия, честно во всём признаться и, может быть, сигануть самому в овраг с крапивой, а потом сесть рядом с Веркой и так же, как она обнять себя за плечи. Он не знал, стало бы легче ей от этого, но ему – точно. Но он ничего этого не сделал. То ли решительности не хватило, то ли смелости – кто знает…
Между тем Верка, отплакав, поплелась прочь, забыв на краю оврага свою косынку.
Чуть погодя и Илюша покинул своё укрытие, а, вернувшись домой, испытал жгучий стыд от своего поступка.
Больше он не видел Верку никогда, потому что на следующий день неожиданно приехала мама Илюши и увезла его домой в Москву, в которой отменили осадное положение: война была уже далеко.
На маме был серый платок и почти такое же серое лицо. И грустные усталые глаза. И совсем седые пряди волос над ушами…
Потом они томительно-долго ехали в битком набитом поезде, приехали, наконец, и вышли из поезда на перроне Северного вокзала.
Москва была такая же серая, как мамин платок…
Мама держала озиравшегося с любопытством по сторонам Илюшу за руку, и они шли по улицам к дому, шли молча. У мамы не было сил говорить, а он не знал, что сказать.
С плакатов на них смотрели суровые лица мужчин-войнов и женщин, тружениц тыла. На одном из плакатов Илюша увидел женщину в таком же, как у мамы сером платке, с таким же лицом, с такими же глазами. Он не выдержал и сказал маме, дёрнув её за рукав пальто.
– Смотри, мама, она совсем-совсем похожа на тебя…
Нюра посмотрела на сына, перевела взгляд на плакат, устало улыбнулась уголками вялого рта, но ни слова не произнесла.
На плакате было написано: «Родина-мать зовёт».
Илюше вновь пришлось привыкать к Москве, вновь предстояло сдружиться с ребятами со двора. Да и в квартире их появились новые жильцы. Если с Неллей Сергеевной он успел познакомиться ещё до того, как мама отправила его в деревню, то выглянувшего из комнаты Митричевых краснощёкого мальчугана лет четырёх видел впервые.
– Ты кто? – спросил Илюша.
– Я – Костик, – не сразу ответил мальчик.
– И чей ты будешь?
Костик пожал плечиками и собрался уже вернуться в комнату, но Илюша остановил его.
– Хочешь быть моим другом? – спросил.
Костик обрадовано кивнул русой головкой.
– Хорошо. Если кто тебя обидит, говори мне, – покровительственно заявил Илюша.
Костик опять кивнул.
– Ну ладно, – важно сказал Илюша. – Мне пора по делам. – И, уходя из квартиры, наказал своему новому другу вести себя хорошо, не баловаться: в этот утренний час в квартире из жильцов кроме Арона Моисеича не было никого.