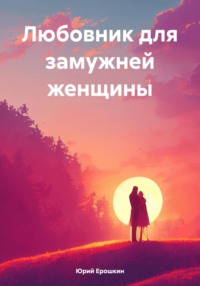Полная версия
При советской власти
– Ты теперь, Гришутка, награды жди от правительства, – в общем коридоре общежития громогласно объявил мальчишке изрядно уже подвыпивший Трофим Колупаев.
Арон Моисеич, оказавшейся неподалеку и услышав эти небезопасные в современных реалиях речи, поспешил скрыться за дверью своей комнаты и почему-то закрыл её на замок, повернув два раза ключ, точно два резких, как передёргивание затвора у винтовки щелчка гарантировали ему безопасность, если что.
Каждое лето Алёна, собрав кое-какие продукты, в основном сухари да сушки, отправляла сыновей в деревню к своим старикам. Чтоб ребята отдохнули, окрепли. Конечно, и дед Иван с бабкой Прасковьей обделены не были вниманием внуков. Несколько дней те жили в Малой Дорогинке, потом вновь уезжали в Рябцево. Ребята помогали старикам по хозяйству, хотя какое теперь хозяйство-то было? Почитай всё что можно и что нельзя обобществили, шиш с маслом оставили крестьянам в личную собственность. Да и Гришутка с Павликом сделались уже городскими детьми, к чему им был крестьянский труд, тем более колхозный. Данила Никитич терпеть не мог это сборище бездельников и лентяев, большую часть дня проводивших не на поле либо в коровниках, а в бесконечных пустословиях на заседаниях да собраниях.
Павлик жизнь деревенскую помнил слабо, совсем мал был ещё, когда родители перевезли его в Москву. Для Гришутки же всё здесь было родное, знакомое. И пруд, залегший в глубокой ложбине на окраине деревне возле дороги на Рябцево (своей родиной мальчик считал всё же Дорогинку, здесь прошла большая часть его деревенского детства), и простиравшиеся на многие вёрсты вокруг деревни поля и луга с попадавшимся кое-где редким лесочком.
И пышнокронные вётлы, росшие перед домом, теперь малость, правда, одряхлевшим, а два небольших оконца, прорубленных в нём, смотрели на проходившую посередь деревни широкую, как река дорогу по-стариковски мутным, будто сквозь катаракту взглядом. Гнедая кобылка Лыска с лысинкой на храпе, любимица Гришутки, состарилась окончательно и померла, новой лошадью дед Иван не обзавёлся. На кой ляд нужна она, ежели колхозное начальство обобществить может её в любой момент?
Прежние Гришуткины товарищи в каждый приезд его поначалу глядели на городского парня исподлобья, точно решали, не станет ли он задаваться? Нет, Гришутка оставался прежним, своим, деревенским. Будь его воля, он ни за какие коврижки не уехал бы отсюда. Вырвавшись на волю, он как молодой необъезженный ещё конь носился по бескрайним деревенским просторам. Дни летели за днями, вмещая в себя купание, рыбалку, игры в лапту – любимую игру местной детворы. А когда на деревню опускались ночные сумерки, ватага ребят постарше, избавившись от постоянно бегавшей за ними мелюзги, залезала к кому-нибудь за яблоками. И пока беспечный хозяин похрапывал на мягкой перине, обчищали его сад, срывая порой и недозрелые плоды. Яблоки были кислые, от них сводило челюсти, но ребята всё равно съедали их вместе с огрызком.
– Вкусно? – усмехнувшись, спросит, бывало один пацан другого, выплёвывая застрявшие между зубов зелёные ещё косточки.
– Ворованное всегда вкусно, – следует неизменный ответ, вызывавший радостное волнение среди маленьких воришек.
Впрочем, не каждое посещение чужих садов оканчивалось на столь весёлой ноте. Хозяин помудрее иной раз подловит гостей непрошенных да жахнет по ним из заряженной солью берданки, вспугнув ночную тишину. Поднимется вслед за выстрелом птичий переполох, раздадутся крики застигнутых врасплох мальчишек, бросившихся врассыпную и ликующий возглас хозяина, если ему удавалось настигнуть кого-нибудь из воришек.
Гришутку не ловили ни разу, парень он был ловкий и бегал так, что пятки сверкали. А вот постоянно попадавшему впросак Павлику он категорически запретил лазать по чужим садам. Тот поперёк воли старшего брата не пошёл ещё и потому, что однажды проникнув всё-таки вслед за ним в чей-то сад, его сильно покусали пчёлы: из любопытства он разрушил их домик, лепившейся под невысокой крышей сарайчика. Несколько дней потом ходил с заплывшим глазом, перекошенной скулой.
Очень нравилось Гришутке гонять лошадей в ночное. Всю жизнь он потом вспоминал это, как самое дорогое из детства. Особенно на фронте в минуты затишья или перед боем.
…Ночь, теплынь. Светит полная луна. Кругом тихо-тихо, только кузнечики стрекочут и где-то далеко на болоте квакают лягушки. Лошади, избавившись от мух да слепней, фыркая, пасутся на сочном лугу. Сидящие вокруг костра мальчишки уплетают за обе щеки печёную картошку с солью и луком. Лук хрустит на молодых зубах, носы и щёки пацанов перепачканы в саже. Кто-нибудь из взрослых, после долгих просьб, рассказывает историю, смешную, грустную или же страшную – про ведьм, вурдалаков, вставших из могилы покойниках. Костёр потихоньку догорает, ночь подступает всё ближе и ближе. Вот тут-то и начинаются рассказы о покойниках, благо, что и кладбище местное всего-то в версте-другой отсюда. Для обитателей того света – не расстояние. Порой даже кажется, что сейчас из темноты кромешной высунется костлявая рука, схватит кого-нибудь из сидящих за шкирку и утянет за собой. Ребята осторожно поглядывают друг на дружку, а оглянутся, посмотреть, что там за их спинами жутко. И ближе подвигаются к затухающему костру, со страхом думая, что будет, когда он совсем погаснет. Однако идти за хворостом никто не решается.
Но вот начинает, наконец, помаленьку светать, ночь отодвигается всё дальше от слабо дымящихся головешек потухшего костра. По свежей росе ребята идут к лошадям и усталые, довольные, возвращаются по домам.
…Алёна обычно приезжала за сыновьями ближе к Успенью, гостила день-другой, выкроив время. Реже – вместе с Петром, если у него было трезвое на тот момент поведение. Чувствуя вину, вёл он себя тихо, говорил негромко, почти не поднимая виноватые глаза на стариков своих. Пуще всего страшился тестя, его сурового, осуждающего взгляда. Прасковья, чью молодость извёл пьянками Иван, молила сына уняться с выпивкой, Гришутка с Павликом подрастают, какой пример он им даёт? Пётр обещал, мол, больше – никогда. И произнося эту клятву прилюдно, искренне верил, что так всё и будет. Не шибко верили только мать да жена, а Иван, сталкиваясь взглядом с бедолагой сыном, откашливался в большой кулак и качал седеющей, некогда кудрявой, как у Петра головой. Не ему в судьях ходить было, сам, несмотря на лета солидные не прочь был заложить за воротник, особливо на дармовщинку.
И Гришутке, и Павлику тяжело было покидать родную деревню, с которой так сроднились за лето. Менять деревенское раздолье на булыжные мостовые и сдавленные со всех сторон каменными домами дворики, просторную избу на тесную коморку прокисшего общежития. У Павлика мелко дрожал подбородок, мальчик вот-вот готов был разреветься. Гришутка хмурился, то и дело прочищал запершившее вдруг горло и по-взрослому, за руку, прощался с друзьями игрищ и забав, обещая непременно приехать на следующее лето. Ватага ребят долго шла за телегой, увозившей Митричевых на станцию; у пруда ребята остановились и долго махали им вслед, пока тянувшая телегу пегая лошадёнка не перевалила за пригорок и не скрывалась за ним.
Тужил об ушедшем деревенском лете Гришутка ровно до тех пор, пока вернувшись в Москву, не вышел во двор к радостно встретившим его друзьям. Конечно, в Москве было не столь привольно, нежели в деревне, но и тут свободу Гришутки никто не стеснял. Родители ему ничего не запрещали без надобности, он был волен в своих поступках. Ходил куда хотел и с кем хотел, ему доверяли. Никакой мелочной опеки со стороны Алёны из боязни, что улица затянет, испортит, погубит, не было. А от Петра – и подавно. Гришутке была предоставлена полная самостоятельность, которой он, впрочем, не злоупотреблял. Может такое воспитание и помогло ему выработать качества, востребованные потом во взрослой жизни, в частности на войне, где он командовал людьми и обязан был принимать решения, от которых зависела не только жизнь вверенных ему солдат, но и его собственная. Но для того, чтобы проявить инициативу, идти на риск во взрослой жизни, надо было готовиться к этому ещё с детства.
К чести Гришутки, жившего неподалёку от печально знаменитого Сухаревского рынка, ко времени его переселения в Москву, правда, уже снесённого, преступная романтика его не приманивала. А ведь нелегко было не увлечься подростку всей этой мишурой, слыша лихие рассказы людей бывалых, отсидевших по тюрьмам немало лет, видя едва ли не ежедневно жуткие драки, поножовщину. Многие погодки Гришутки и ребята постарше прельстились такой жизнью бесшабашной, ступили на скользкую дорожку, в конце которой ждал их либо нож в спину, либо длительный тюремный срок.
В том, что братья Митричевы убереглись от злой доли, в первую очередь была заслуга Алёны, которая, как человек верующий, ненавязчиво питала неокрепшие ещё ребячьи души сыновей христианскими ценностями: не убий, не укради, не лги…
Ребята впитывали их, не подозревая, что взяты они из книги, строго-настрого запрещённой советской властью, по невежеству своих глашатаев верившей, что она сама в состоянии раз и навсегда покончить с преступным элементом.
…А преступный мир Сухаревки, вынырнув однажды из тёмной подворотни, ещё ворвётся безжалостно и властно в жизнь Гришутки, Гриши Митричева, резко изменив её плавное течение…
4
Перед Гришей Митричевым не стоял вопрос, кем быть после окончания школы. У него, как и у большинства молодых людей его поколения было страстное желание стать военным. И не просто военным, а непременно лётчиком. Готовя себя к этой нелёгкой профессии, он активно занимался спортом на стадионе «Буревестник», открытым при одноимённой обувной фабрике. Прыгал в длину и высоту, толкал тяжеленное ядро, подтягивался до изнеможения на турнике, изнурял себя долгими кроссами. И, тайком от матери, закалялся. Бывало, зимой с одноклассниками, тоже, как и Гриша бредившими авиацией, отправлялся в Измайлово, захолустный район, лишь недавно вошедший в черту Москвы и там, в лесных прудах, окунался в прорубь. А чтобы не окоченеть на морозе, после захватывающих дыхание процедур прытко бежал домой, обгоняя плетущиеся еле-еле переполненным рабочим людом трамваи.
Помимо этого Гриша сдал соответствующие нормативы и получил значки БГТО, ПВХО, «Ворошиловского стрелка». Но когда до прохождения медкомиссии при зачислении в аэроклуб оставалась какая-то неделя, Гриша свалился с плевритом, угодив вдобавок в больницу. То ли доктора недоглядели, то ли болезнь эта дала какие-то неожиданные осложнения, провалялся Гриша в больнице почти три месяца, отчего вынужден был остаться в девятом классе на второй год. Однако это волновало его меньше всего, главное – медкомиссия, как бы она не забраковала его и тогда мечта о небе навсегда останется для него лишь мечтою.
К счастью всё обошлось и одновременно с учёбой в школе Гриша начал заниматься в аэроклубе, чуть ли не ежедневно после уроков, которые еле высиживал от нетерпения, мчался в подмосковный посёлок Тушино на аэродром. К моменту окончания школы он уже самостоятельно летал на У-2. Мечта стать лётчиком постепенно осуществлялась. Но он хотел быть не одним из многих лётчиков, а непременно знаменитым, как Чкалов, например.
Тогда многие молодые люди хотели, чтобы о них говорила страна, чтобы фотографии их печатались в газетах, как героев первых пятилеток Стаханова, Ангелиной, Бусыгина, Марии и Дуси Виноградовых…
А как же могло быть иначе в атмосфере грандиозных свершений! Это молодое поколение страны Советов возводило Магнитку и Днепрогэс, Уралмаш и Челябинский тракторный, Комсомольск-на-Амуре, Уральский вагоностроительный и Турксиб, Новомосковскую и Кемеровскую ГРЭС.
Это они строили московское метро, которому было присвоено имя Первого секретаря Московского горкома партии тов. Кагановича. Ветка, введённая в действие в тридцать пятом году, протянулась от «Сокольников» до «Парка культуры», с ответвлением в одну остановку до станции «Смоленская». Гриша, созорничав, назвал её «аппендикс Кагановича», за что получил от матери знатный подзатыльник и наказ прикусить язык.
– А то не в лётную школу попадёшь, а… – Алёна недоговорила, выразительно посмотрев на старшего сына, почёсывавшего затылок.
Дополнительных объяснений не потребовалось, он понял, что подобные шутки до добра не доведут.
Не все граждане решались вот так запросто спуститься под землю, особенно робели представители старшего поколения, говоря, что под землю они ещё успеют спуститься. А вот любознательная молодёжь стала, чуть ли не всё свободное время проводить в метро, кататься в больших светлых вагонах с жёсткими, но довольно удобными сидениями, с четырьмя двухстворчатыми дверьми на каждой из сторон, с узкой чёрной полоской, проходившей посередине вагона, отделяющей жёлтый верх от коричневого низа. А какой восторг вызывали огромные станционные залы, отделанные разноцветным мрамором и гранитом! Кому-то глянулась белая и серая расцветка мрамора, коим отделана была станция «Парк культуры», других завораживал белый свод зала и широкие пилястры, облицованные жёлтым мрамором на «Библиотеке им. Ленина». Третьи немели от созерцания колонн из мрамора розового, увенчанные отделанными под бронзу капителями с эмблемой Коммунистического интернационала молодёжи и майоликовым панно, отражающие ударный труд комсомольцев-метростроевцев на станции «Комсомольская»
Гришу Митричева более других «зацепила» «Смоленская», вестибюль которой был встроен в возводимый на Смоленской площади многоэтажный жилой дом! Глядя на строительство дома, он всё старался представить, как это ходить, есть, спать, когда под тобой по огромному туннелю бегут поезда метро?
Мог ли тогда он, ещё школьник, хоть на минуту вообразить себя, что через много-много лет, пройдя от первого до последнего дня страшную войну, где смерть не раз подбиралась к нему на расстояние вытянутой руки, он поселится в этом огромном доме вместе с женой и маленьким сыном…
Если газетные репортажи о новых грандиозных свершениях воодушевляли, то разоблачённые вредители и диверсанты разных мастей вызывали справедливый гнев советских людей, занятых мирным созидательным трудом на благо родины. Волну возмущения по всей стране вызвало подлое убийство руководителя ленинградской партийной организации тов. Кирова. Доблестные работники органов НКВД в кратчайшие сроки раскрыли это зверское преступление, совершённое, как выяснилось, участниками зиновьевской антисоветской группы, окопавшейся в городе Ленина и уничтожила их, как «бешеных собак».
Но пока газеты на все лады трубили о гибели тов. Кирова от рук подлых убийц из троцкистско-зиновьевского отребья, в народе родилась частушка:
Эх, огурчики мои, помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике,
которую прогорланил, да с лихим, задорным приплясом, крепко выпивший Трофим Колупаев в коридоре полуподвального помещения общежития ломовых извозчиков.
В пушкинской драме «Борис Годунов» есть следующая авторская ремарка: народ в ужасе молчит. Именно она и была теперь невольно сыграна случайными слушателями опасной частушки, некстати оказавшимися в эту злополучную минуту в коридоре вместе с Трофимом. Все в ужасе замолчали… И ещё замерли, словно в детской игре в «замри-отомри». Ежели бы здесь сейчас оказался великий Станиславский, он, увидев эту сцену, без сомнения воскликнул бы в восторге – верю!
Первым из ступора вышел Арон Моисеевич, всегда оказывавшейся в гуще событий. Он по-кошачьи тихо пробрался в свою комнату и по давней, казавшейся ему, видимо, спасительной привычке закрыл хилую дверцу комнаты на два поворота ключа. Эти щелчки, особенно резко прозвучавшие в воцарившейся тишине, напоминавшие передёргивание затвора винтовки, вернули к жизни и других участников сцены. Плохо державшегося на ногах и ещё хуже соображавшего Трофима Аглая проворно затолкала в комнату, направившейся было к весёлому приятелю своему Пётр Митричев, сравнительно трезвый ещё, был перехвачен бдительной Алёной и водворён обратно в комнату, двери которой приоткрыл, услышав запев Колупаева. Разошлись и другие соседи, не поднимая друг на друга испуганных глаз.
На Трофима, в этот день ещё мелькавшего и в коридоре, и на общей кухне, смотрели, как на безнадёжно больного человека, жить которому осталось считанные часы, много – дни. Но прошли отпущенные ему молвой часы, прошёл день, другой, третий, а больной продолжал жить, сапожничать и даже по-прежнему выпивать.
Оказалось, что среди обитателей полуподвального помещения общежития ломовых извозчиков стукачей не было… Это не значило, впрочем, что теперь каждый мог спеть нечто подобное, либо крамольные речи произносить. Не ровён час у кого сдадут нервы – ведь недоносительство тоже считалось тяжким преступлением.
В семействе Митричевых произошли благостные перемены. Пётр наконец-то взялся за ум, поумерился с выпивкой и нашёл хорошую работу в подмосковной деревне Горки на коксогазовом заводе, куда устроился слесарем. Вот только ездить из Москвы каждый день в такую даль трудно было, и Пётр снял комнату в деревне у одной старой одинокой бабульки. А вскоре перетащил в Горки и стариков своих, которые уже нуждались в постоянном присмотре. Иван обезножил совсем, еле-еле передвигаться мог, да и то, держась за стенку. И Акулина сильно сдала, всё тело ломило, словно она воду целыми днями на себе таскала. Дом в Малой Дорогинке продали и купили половину дома у той самой одинокой бабульки, у которой Пётр снимал комнату. Та рада-радёшенька была, что на старости лет хоть будет с кем словом перемолвиться, да и глаза закрыть, коль смерть приключится, тоже теперь было кому.
Взяла с Митричевых недорого, пустяки какие-то.
– На что мне деньги-то, на том свете с имя делать нечего, а на этом мне много не надо.
Дом стоял в хорошем месте, окружённый сосновым лесом. Неподалёку протекала Пахра. И сам дом был, в общем-то, добротный, разве малость подлатать кое-где требовалось. И Петр, оглядывая новое жилище, уже прикидывал в уме, что надо сделать.
Наверно, Иван с Акулиной так и прожили бы свой век в родных местах, ежели бы дочка их не покинула. Но Катерина вышла вдруг замуж за уполномоченного из военного комиссариата, прибывшего в деревню, чтобы приглядеть коней для кавалерийского полка. Дело своё он сделал, а заодно и жену приглядел, отчаявшуюся уже выйти замуж Катерину. Она за супружником своим едва ли не вприпрыжку побежала, думы о стариках-родителях из головы насовсем выкинула. Свою жизнь надобно устраивать, не девочка уже, за тридцать давным-давно перевалило. И с тех пор вот уже года три о ней не было ни слуху, ни духу. Никто не знал, где она, что с ней? Решили, что всё ладно у бабы, раз назад не вернулась с дитём в подоле.
А Данила Никитич с оставшимися под его кровом детьми – сынами-инвалидами ещё с войны империалистической да одной из дочерей – старой девой сниматься мест родных не пожелал.
– Здесь родился, здесь и помру, – сказал своё слово, и Алёна в другой раз и не подступала с уговорами, зная его характер.
Оставшись одна с сыновьями, Алёна вольнее вздохнула. Не значит, что работать стала меньше, нет. Без работы она и дня не прожила бы, да и как это – не работать? Минули те безоблачные годочки, когда у батюшки родного поблажки получала, ныне времена другие, у неё дети, без работы нельзя никак. Просто оставшись одна, почувствовала какое-то незнакомое прежде спокойствие на душе. И грешная мысль пришла в голову: а без мужа-то оно и лучше.
Павлик перебрался в восьмой класс, Гриша школу окончил. И теперь только несколько месяцев отделяло его от поступления в лётную школу, о которой наяву грезил вот уже сколько лет. В школе он, конечно же, освоит для начала учебно-боевой вариант уже знакомого ему по аэроклубу самолёт У-2 – У-2ВС. А уже после… Дух захватывало, когда начинал он мечтать о своей дальнейшей лётной судьбе. Только бы скорее проходили эти несколько месяцев и он – курсант лётной школы!
А пока вовсю цвела весна, красивые девушки мимоходом одаривали кружившими голову улыбками и одурманенный ими Гриша, волнуясь, думал, что со временем какая-нибудь из них непременно станет его женой…
Обличьем Гриша пошёл в материнскую родню, был коренаст и широкоплеч, как дед Данила Никитич и многочисленные дядья его, лицом в мать, симпатичный. А от отца унаследовал серые весёлые глаза да слегка вьющиеся чёрные волосы.
Время между экзаменами коротали по-разному. Гоняли в футбол и волейбол, катались на метро, купались в Москве-реке, загорали на её обтянутых зелёными коврами берегах. Правда, были в классе и те, кто всему этому предпочёл банальную зубрёжку, окунувшись в учебник. Но тёплыми июньскими вечерами и те и другие сходились, чтобы послушать пластинки, потанцевать под патефон. Иной раз выпивали украдкой лёгкое сладкое винцо, курили. Кто уже и открыто, как взрослый, а кто всё ещё смолил, зажав папироску в кулачок, опасаясь родителей, могущих застукать и накостылять по шее за курение.
В классе были счастливые обладатели редкой пока что музыки. У Игоря Урчагина, сына директора магазина, имелся новенький, упакованный в сафьяновый красного цвета чемоданчик патефон под названием «Дружба», а у Оли Кудрявцевой – «Владимирский», несколько уже подержанный, купленный её отцом-метростроевцем с рук на барахолке ко дню рождения дочки. Патефон сипел, потрескивал, отчего слова песен было сложно разобрать. Поэтому чаще наведывались к Урчагину, жившему неподалёку от Трубной площади. Он осторожно, чтобы не лопнула ненароком запрятанная внутрь патефона пружина, заводил его, аккуратно накручивая ручку, и ставил на подоконник растворённого настежь окна своей комнаты, расположенной на первом этаже трехэтажного кирпичного дома. И двор на какое-то время превращался в танцплощадку. С пластинками было богато, ребята добыли и Леонида Утёсрва, и Изабеллу Юрьеву, и Павла Михайлова, и Ружену Сикору, и Ефрема Флакса…
Танцы проходили под осуждающие взоры стариков и старух, сидевших на скамейках возле подъездов, как в зрительном зале. Голоногие и короткостриженные, словно после тифа, девицы, ребята в широченных, как у матросов брюках. Разврат, разврат какой-то, в их время такого не было. А молодёжь между тем самозабвенно танцевала, не обращая внимания на строго судившую её старость. Веселились до тех пор, пока кто-нибудь из уставших от бесконечных фокстротов и танго не кричал им, чтоб «прекращали балаган», людям завтра рано вставать на работу.
После гурьбой шли гулять. Кое-кто предпочитал уединиться, но таких было мало. Девушки непременно хотели идти через Сретенку. Там несколько лет назад открылся едва ли не единственный в Москве (возможно, и во всей стране) Дом моды, именовавшийся «Трест «Мосбельё». Девушки подолгу задерживались у роскошных витрин манившего их заведения, о чём-то шушукались и мысленно примеряли на себя выставленные в витрине наряды.
Вообще-то в классе, где учился Гриша Митричев, было достаточно милых и даже симпатичных девушек. Некоторые из них, та же обладательница патефона Оля Кудрявцева, бросали на Гришу весьма благосклонные взгляды. Но пока ни одна из них не потревожила его покой и сон, потому как ни в одну из них он не был влюблен.
Однажды после очередной вечеринки с танцами под патефон получилось так, что он остался один на один с Олей Кудрявцевой, стройной девушкой, мечтавшей стать знаменитой, как Любовь Орлова, актрисой. Гриша прежде никогда не гулял с девушкой и не знал, как надо себя в таких случаях вести, о чём говорить. Потому разговор не клеился. Был поздний вечер, электрические фонари освещали почти опустевшие улицы. Упорным молчанием своего кавалера Оля была раздосадована: неужели она ему не нравится! Она пробовала растормошить его вопросами о музыке. Что ему больше нравится, фокстрот или танго? Как он относится к тому, что Леонид Утёсов поёт вместе с дочерью Эдит, тонкий и высокий голосок которой её лично раздражал? А хорош ли, по его мнению, оркестр Цфасмана? Гриша, не большой знаток современных музыкальных направлений, отвечал односложно, да – нет, а то и вовсе какими-то непонятными девушке жестами. Оля совершенно в нём разочаровалась и подумала, что многие, оказавшись на месте этого неотёсанного Митричева, за счастье почли бы пройтись рядом с ней и уж совершенно бы потеряли голову, если бы она соизволила говорить с ними. Подумав так, она окончательно обиделась и прибавила шаг – невысокие каблучки её туфель-лодочек, выпрошенных на вечер у мамы, скоренько застучали по булыжной мостовой. Подойдя к своему подъезду, скрылась за его скрипучей, тяжеленной дверью, не ответив на «до свидание» своего горе-кавалера.
А Гриша, соориентировавшись, где он находится – стоял он в одном из переулков, выходивших на Петровку, отправился домой. Сокращая путь, шёл двориками, все ходы и выходы из которых знал наизусть.
Только теперь, немного успокоившись, он понял, как сглупил, не сказав Оле, по сути, и двух слов. Испугался почему-то близкого присутствия девушки… У него даже спина вспотела. Прежде он никогда никого не провожал в одиночку. И каким олухом он, наверно, ей показался! Всё мямлил что-то, жестикулировал невпопад. Размышляя над тем, как загладить вину перед симпатичной Олей, ему пришла в голову отличная мысли пригласить её в цирк, мимо которого он проходил теперь по дороге домой. А что? Отстоит очередь, возьмёт билеты. Всё очень просто.