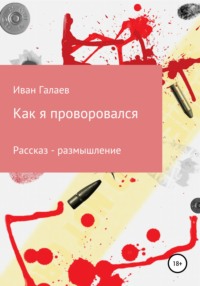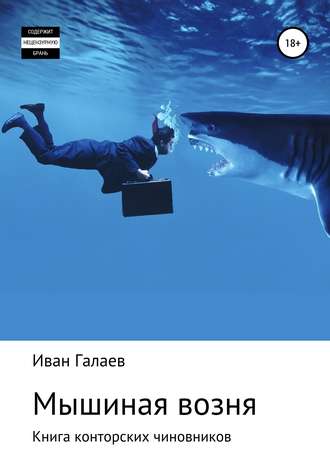 полная версия
полная версияМышиная возня. Книга конторских чиновников
Например, предлагается кем-нибудь из умных людей внедрить (плохое слово для иннвационной сферы) новую технологию – пусть это будет применение замечательной добавки для укрепления грунтов в дорожной отрасли. Разработка уже десятки лет живёт и радует прогрессивное человечество, но у нас, местных, она встретит такое бюрократическое сопротивление, что потребуется добрая черверть века на пустопорожние дебаты.
Первой проблемой явлится то, что государственный Заказчик не сможет гарантировать результат т.к. официальный опыт применения продукции да и самой технологии отсутствует. Заказывать на начальном этапе непроверенный доселе продукт – опасность, потому что деньги потратятся однозначно, а что получится – под вопросом. Мало ли Остапов Бендеров на просторах Родины – если не защититься от них вовремя, погонники потом душу вынут. Они там только и ждут чего «нестандартного», чтоб разобраться и «взять на контроль». С их «правильного» толкования любое ноу-хау легко оборачивается в «необоснованное расходование бюджетных средств», и добро пожаловать в карусель.
Чтобы не впутываться в сомнительную кампанию, у чиновника сразу возникнут увёртки в виде «малоизученных влияний на человека», особых гидрологических условий местности и климатических факторов. Начнутся сказы о недопустимости сомнительных «опытов» за бюджетный счёт и прочей лабуде. Тактика оттяжек и проволочек – древнейший способ отказа.
Под свою ответственность государственный человек и пальцем об палец не ударит. Ему легче перечислить в своём официальном заключении на инновацию все опасения и отправить разработчика на повторный круг за доказательной базой, чем включиться в процесс. Чтобы подстраховаться, у новатора будет запрошен целый научный труд с расчетом эффективности его методики. Надо будет произвести скурпулёзные расчёты с учетом индивидуальных особенностей конкретного объекта, подкрепить их заключениями компетентных органов, и принести документацию на блюдечке с голубой каёмочкой.
Второе: Строительство, как сфера в целом, опирается на нормы и тарифы. Применение инновационной продукции в ней (особенно за счет бюджетный счёт) требует дополнения нормативно – технической базы, в том числе, территориальных или федеральных единичных расценок. Осметить50 неизвестно что (без аналогов) по существующим данным невозможно: будет множество вопросов у финансистов, проверяющих и им подобных молодцов. Где гарантия, что цена не завышена? Чем доказать её правильность, если отсутствует госцена и каков среднерыночный показатель?
Третей проблемой станет приёмка выполненных работ. Речь идёт об официальном заключении (документе), что полученный результат является безопасным, замечательным и соответствующим нормам. Испытательная лаборатория, которая обязана иметь государственную аттестацию, обычно не допущена к проведению анализа «неизвестности». Проверять образцы, не установленного ранее эталона и неизвестных показателей, по которым оценивается качество полученного продукта, технически сложно. У Заказчика нет возможности подтвердить факт получения именно того, что было им намечено за народные деньги. И даже если он придумает как это сделать (умов хватает), то подтвердить свои исследования – не имеет прав.
Четвёртым препятствием окажется строжайший законный запрет продвигать, а точнее навязывать, определенную методику и тем более от конкретного или единственного разработчика. Это статья!
Новатор же по своему определению ещё не имеет конкурентов в своей нише, что относит его к некой монополии. В понимании надзорных органов контакт с таким «подрядчиком» – запрещённый приём. Чтобы обезопаситься, любая инновационная инициатива автоматически категорируется как коммерческое предложение, после чего путь у неё заказан и ничего обещающего ей уже не светит. Папка с коммерческими предложениями настолько толстая, что её никто и со шкафа ужу снимать не хочет – подкладываем кое-как листочки туда наверх, и всё.
Здравость идеи абсолютно не главное в этом деле. Даже если мысль будет абсолютной «эврикой», без соответствующей поддержки, она утонет в препонах условностей и корректностей. Положительное решение о поддержке любого разработчика принимается только протекционно, волевым решением. На каждую инновацию в строительной сфере нужен серьёзный «буфер», который готов пробивать путь. При том крупное должностное лицо, согласившееся стать покровителем, в случае провала затеи, может само оказаться в плохом положении, поэтому за подобные продвижения берутся редко. Даже сложно предположить какие должны быть гарантии финансового успеха и какой рычаг воздействия, чтобы заинтересовать своим изобретением кого-то из действительно влиятельных лиц.
Для нас, матричных работников, пока на документе (предложении о сотрудничестве) не появится нужная резолюция корявым почерком, действия разработчика – напрасны. Мы его умотаем вопросами, а потом рекомендуем реализовать своё ноу-хау без привлечения бюджетных ассигнований где-нибудь в другом месте.
Обычно предлагаем применение его инновации на опытно-экспериментальном участке автомобильной дороги за собственный счёт и при условии безвозмездного научного-технического сопровождения процесса разработчиком. Предложение заведомо кабальное – результат предсказуем.
Следует отметить, что в официальных заявлениях сложно отыскать и намёк, на то, что продвижение инноваций у нас маловероятно и никому не интересно. Согласно публичным заявлениям, строительный сектор нуждается в свежих идеях и светлых головах. На этих речах ловятся многие. Государство будто подчёркивает хилость и неспособность отечественного изобретателя, играя на амбиции. Приходите, возьмитесь, говорится во всеуслышание. Когда же нéкто одержимый идеей и успехом приносит государству свою разработку, то получает камень вместо хлеба. Ничего личного, и даже взятки с мошенством тут ни при чём.
Схватившись за свою идею, разработчик (а он может быть даже начинающим учёным) натыкается на встречную отработанную десятилетиями тактику оттяжек и проволочек. Чтобы умотать активиста здесь есть множество инструментов и механизмов. Два, три, пять кругов захода – что угодно, но НЕТ.
Бывают единичные случаи удачных прорывов, если их можно назвать таковыми, но это мизер мизерный, который ИННОВАЦИЕЙ можно назвать только с натяжкой. В моей практике был такой случай, когда на протяжении семи лет наше областное Правительство отстаивало позицию, что укрепление грунтов не целесообразно. (Семь лет только на моей ясной памяти!) Я точно знаю каждое движение и каждое настроение по этой теме. Сколько научных трудов и коммерческих предложений руками бравых, накрахмаленных, белозубых ребят было законопачено в шкап, подальше от людских глаз.
Никому из нашей гвардии не хотелось брать это знамя и вставать под пули. На многолетний зарубежный опыт было тоже плевать. И вот в один прекрасный день прибыл Минсоколов, который внезапно, без лишних церемоний и изучений геологических особенностей региона (как мы обычно пишем), сказал: «Будем делать у вас укрепление грунтов».
От такого заявления всё переменилось в одночасье – нас как подменили. В 11:00 закончилась его встреча с губернатором, а в 11:00 этого же дня Я уже с огоньком занимался проработкой вопроса в заданном направлении. Сразу на местном уровне поручили обосновать целесообразность технологии, чтобы выдержать равнение на федерацию и начать делать у себя также. Сверху вниз сигнал проходит быстро – не извольте беспокоиться!
В рамках этого же поручения нужно было успеть закупить много импортной техники для местной монопольной госкорпорации и обеспечить ей конкурентное преимущество к моменту внедрения озвученного ноу-хау. Местный монополист должен остаться таковым, даже если будут применены космические технологии. Нельзя терять такой источник дохода как федеральные дороги, – и областная власть всеми силами обеспечивала его поддержку.
Не стану здесь рассуждать о том целесообразно или нет, – оно не важно. Для меня интересен сама смена направления ветра.
Все заказчики, подрядчики, лаборатории и опытные эксперты на протяжении многих лет хором пели одну и ту же песню и как под копирку писали заключение что «это нормативно невозможно, у нас оно не применимо, эффекта не будет и пр. и пр.» и тут же в одночасье полярно сменили свою позицию на: «В Европе делают!». Всё стало эффективным, безопасным и вообще манной небесной – спасибо за мысль. С подачи руководства нарушать законы легче и приятнее; даже необходимость применения зарубежной техники в эпоху Внезапного импортозамещения не оказалось помехой. Широкими шагами технология пошла в дело, а все минусы её были услужливо умолчаны.
Дальше наступили последствия управленческих решений. Например, в воздухе повис серьёзный вопрос о судьбе госкорпорации по железнодорожным перевозкам. Отказ от их услуг по транспортировке сотен тысяч кубометров щебня из [прекрасного далёко] является резким ходом, Я б даже сказал – актом недружества. Если так просто закрыть для них в бюджете золотую жилу, в последующем придётся железнодорожников субсидировать только за то, что они есть! Без возражений их руководство не допустит прекращение таких масштабных перевозок. Следующим, после Минсоколова приедет президент Железных дорог и тоже скажет своё убедительное слово. Он, кстати, не менее весомая политическая фигура и толк в логистике знает не хуже некоторых. Придётся прислушаться, придётся… Платим железнодорожникам + иностранному производителю техники + западным специалистам по работе с этой техникой + поставщикам импортных добавок… Скорее всего владельцы гранитных карьеров в соседней области также, как и железнодорожники, не сдадутся без боя: они имеют серьёзных учредителей в столице и смело пойдут к своему местному губернатору за подобной субсидией «на спасение бизнеса от последствий инновации». Просто так снизить объём добычи и поставок камня не дадут. Боюсь предположить до чего может дойти…
А если технология всё же вопреки всем желаниям окажется эффективной, то тогда логичным будет разогнать армию специалистов, которые столь долго имели иную инженерную позицию и мешали прогрессу?
Так делать точно нельзя. Менять позицию можно, а вот увольнять за это не стоит… Иначе так всю власть разогнать можно.
Известные рейтинги относят наше государство по качеству дорог в самый конец списка. Журнал Gallup, например, определяет нашим дорогам почётное 128 место из 148 (промежуток между Мавританией и Чадом). Всемирный банк приподнимает на 125 из 145. На мой взгляд, такое место в рейтинге при существующем устройстве – еще не так плохо.
Когда-то уральские промышленники из-за наличия дармовой рабочей силы не пустили паровую машину к себе на рудники и тем самым отодвинули индустриализацию на столетие. С тех пор многое изменилось, но в одном я уверен наверняка: со Строгоновыми и Демидовыми договориться было легче чем с нами.
Тот же мост. Реконструкция
По спецзаданию руководства готовил статью про дороги для местного издания Царьград.
Обычно газета лениво задаёт перечень ориентирующих вопросов, которые, по их мнению, наиболее желательно осветить при подготовке материала.
Вообще, газетчики задают такие вопросы, что мама не горюй. Редкий журналист или корреспондент хотя бы элементарно осведомится тем, над чем ему предстоит работать. Всё делается небрежно и пóходя; их даже не очень-то волнует результат: статья нужна для плана. Большинство из них находятся в той же матрице, что и госслужащие – они не любят своё ремесло и не трудятся на результат. На дело и суть – плевать.
Освещается только то, что разрешено, соблюдаются те же заповеди, что и у нас. Вопросы несут доброжелательный характер, а сенсации строятся только на пустом месте. СМИ уже давно являются подведомственным государству; мы даже систему электронного документооборота с многими из изданий имеем единую, как и начальство в общем-то. Четвёртая власть (журналистика) давно уже в составе вертикали. Какими бы независимыми они себя не мнили, свободой там и не пахло. Да и, впрочем, чего интересного и актуального можно выведать у заблокированного внутренней цензурой клерка? Даже если редкий журналист в силу своей свежести и выведает что-то, благодаря смекалки или прыти, то материал не уйдёт дальше его стола. Обломают, приструнят, вразумят.
Чтобы не будить лихо, многие из них адаптируются к условиям и обрастают мхом. А зачем горячиться? К чему открывать банки с тараканами, ломать голову и лезть в дебри, если всё равно итог будет один? Здесь не Бóстон глоб, не Таймс и не Миррор, а Царьград с Губернаторскими новостями (не путать с Губернскими). Деньги платит не читатель, а государство… Работаю, получаю оклад – я штатный коммунист журналист!
СМИ дилетантски перестают разбираться в материале, они задают нам (властям) бестолковые вопросы: главное написать хоть что-нибудь «для плана». Профессиональное безразличие к происходящему распространилось и на них – мы в одной обойме.
Скучно и однообразно с ними стало. Пропала… Нет уже того порыва, сюжета, пропала загадка. Мне, как ответчику от лица власти, велено каждый раз начинать статью с разъяснений, что вопрос задан не корректно и поэтому информация по этой теме будет по другой логике, без учёта их пожеланий… Ребятам плевать на то, что Я даю, мне плевать на то, что они спрашивают. Полученный от чиновника сухой никчёмный материал переводится на более простой язык с вставкой деревенских словечек и запускается в эфир или сеть. Быстрей, быстрей, быстрей – отмахнуться, закрыть и забыть… Информация будет играть пару недель, пока не поступит повторный запрос от другого издания и снова по кругу. Дела идут, контора пишет.
В этот раз вопрос звучал так:
– В какой период планируется разобрать старый Паршинский мост через Великую реку и построить новый? (Горожане очень опасаются возможно новых пробок из-за очередного строительного бума).
Надо же. Хоть что-то новенькое. Даже сам заинтересовался. Хоть и живу на том берегу, а впервые слышу.
История берёт своё начало от масштабной борьбы с пробками, когда к имеющемуся на тот момент крупному мосту был пристроен его двойник. Магистраль уширили, а движение запустили таким образом, что каждый мост обслуживал свой транспортный поток, являясь односторонним и самостоятельным сооружением по сути. В заречные микрорайоны из центра двигаемся по старому направлению, обратно – по новому. Красота.
Видимо где-то когда-то в ходе реализации этой блестящей инженерной мысли при непонятных обстоятельствах взболтнули, что в проекте есть раздел демонтажа существующего (старого) моста. Может это было сказано как между прочим, или по недопониманию сути дела, но в последствии фраза передавалась из уст в уста и породила ажиотаж.
Как положено, Я запросил у коллег все необходимые данные и погрузился в раскопки.
Открываю проектную документацию и вижу отдельный раздел по старому (существующему) мосту, который выделен в отдельный этап мероприятий. При этом почему-то работы по объекту у нас в административных кругах считаются выполненными и дальнейшие расходы совсем не планируются. Закружилась голова, включил настольную лампу.
От пояснений и комментариев подведомственного нам Заказчика становилось только ещё хуже. На мои вопросы они там чмокали, кашляли, тяжело вздыхали в трубку и приводили примеры из жизни. Один «ответственный специалист» убежал в архив за документарными доказательствами (как он это назвал), там он в спешке поскользнулся на мокром полу, и скрылся на больничном.
Другие «осведомлённые лица» городили тезисы про какую-то этапность работ, сверхнадёжность железобетона и экспертизу. Какие только доводы не приводили, но каждую мысль заканчивали одним и тем же утверждением: «Разбирать старые пролёты не надо и не будем – это знают все».
Фрагменты речи не желали складываться в единую картинку. Я понимал, что всё больше не понимаю. Почему-то ВСЕ всё знают и для этих всех всё очевидно, но тема уже стала хайповой и на неё нет разумного комментария в СМИ. Заподозрил даже на какое-то время, что совсем не разбираюсь в строительной деятельности и пора уходить с должности. Если демонтаж есть в проекте, но его не нужно производить, тогда зачем его предусматривали в проекте? Если запроектировали переделать мост, но не собираются эту задумку воплощать в жизнь, как они будут вводить объект в эксплуатацию и уходить от страшного слова «незавершёнка»? Чтобы это всё увязать в голове, пришлось вникать в суть (самое трудное в нашем деле).
Изначально планировалось тупо построить рядом новый мост и объединить его с существующими подъездными насыпями. Проектирование моста было проторговано в 2007 году под названием РЕКОНСТРУКЦИЯ. Так было указано в техзадании и в официальной аукционной документации. Дальше по окончании проектирования выяснилось, что столичная Главгосэкспертиза, которая всегда права, решительно против такого наименования объекта. Был задан логичный вопрос: «Если вы реконструируете существующий мост, почему он остается не тронутым? Либо меняйте название объекта (проекта), либо делайте как положено». Задний ход к тому моменту был запрещён: нельзя начать объект с одним названием, а закончить уже с другим – такой манёвр трактуется мошенничеством, нецелёвкой и незавершёнкой. Чтобы сменить титул, надо заново переторговывать проектировку по всем пунктам процедуры, а это очень сложно. И к тому же не факт, что исполнители работ по результатам торгов останется прежним.
В этом месте началась хитрая режиссёрская работа.
Чтобы выдержать заданный курс под названием РЕКОНСТРУКЦИЯ, и угодить требовательной экспертизе ловкие молодцы предусмотрели в проекте дополнительные работы ещё и по существующему (старому) мосту. Это были заведомо фиктивные мероприятия, которые никто осуществлять не собирался.
Запроектировать и не построить – проверенный рабочий способ.
Объект разбили на 2 этапа: старый мост + новый мост. Один том – фиктивный, для отвода глаз, второй – для работы.
Раздел проекта на старый мост (со стоимостью проектирования 1,5 млн. в долларовом эквиваленте) сразу же сдали в архив и забыли, а по новому всё сделали как положено и получили ордена. Если бы в самом начале назвали объект как положено – СТРОИТЕЛЬСТВОМ, такого манёвра и гигантских затрат на дополнительный проект можно было избежать.
В голове всё сложилось, но как это написать газетчикам?
Сообщить, что демонтаж старого моста был умышленно заложен в проект и умышленно забыт только для того, чтобы обойти формальность с заголовком?
Обычно в таких случаях мы пишем просто: «Работы по объекту не планируются», но это раздутое дело требовало более развёрнутых объяснений. Коротенькая и однозначная формулировка о намеренном бездействии может сильно заинтересовать надзорные органы. Посыпятся вопросы:
– Если есть проект, то почему не планируете реализовывать? На каком основании бестолково тратятся народные деньги на разработку документации и т.д.?
Надо было ответить так, чтобы отмахнуться раз и навсегда.
После протяжки моего текста через фильеру51, на выходе получилось следующее:
– Проектная документация на реконструкцию существующего моста разрабатывается. Работы могут быть предусмотрены в перспективный период исходя из готовности документации и приоритетности объектов транспортной инфраструктуры.
Аккуратненько так, не броско спёрли на медлительность и неопытность проектировщиков. Нет у нас хороших инженеров… Да и времена не те сейчас – денег совсем мало, не до строительства в общем…
Спокойно. Спокойно, друзья.
КАРЬЕРА, МИФЫ
Кто у нас работает и за что
– Что вас тут держит?
– Ничего, мы сами тут держимся
/диалог завхоза и уборщицы/
Мифология о чиновном благополучии делают свою работу – от желающих «командовать, брать взятки и махать коркой» здесь нет отбоя. Некоторые тянутся за социальной защищенностью, кому-то хочется лёгкого карьерного роста. Черпая информацию из СМИ, человек может себе много чего вообразить. Многие, пойдя на поводу у слухов и мифов, серьёзно разочаровываются.
Первое, что следует знать о госслужбе – она не для людей с улицы, не для гениальных головастиков и не для всяких там Егоров Летовых. Устроиться сюда не так сложно, а вот комфортно существовать – вряд ли. Работа в органах власти специфическая и она требует особого типа мышления. На службе здравствуют два основных вида человека: «свои» и подлецы-негодяи, – остальным тут не место. Само устройство системы благоприятствует успеху именно таких ребят. Госслужба не коммерческое предприятие, где все в одной лодке и за плохую работу команды наступает неизбежная расплата потерей самого бизнеса, здесь всё по-другому. У нас нет реальных показателей, по которым можно судить об эффективности труда и правильности принятых решений, отсутствуют критерии результата: оценка «хорошо» или «плохо» всегда субъективна и на глазок. Кумовщина с бездарностью в принципе не опасны для прогосударственного работодателя: бюджет любые промахи с просчётами затягивает, а закрыть госучреждение – тот ещё оксюморон. Поэтому одно из самых жизнеутверждающих навыков здесь увёртливость.
В каждом ведомстве тем или иным способом работает механизм фильтрации непригодного человеческого материала. Отбор по формату осуществляется постоянно, но всё же, общество клерков не является однородным и одинаковым. Как и в любой сфере деятельности здесь есть бездельники и работяги, недоумки и хитрецы, свои и залётные – не приживаются только люди с твёрдыми убеждениями и благородными намерениями.
Нужными свойствами являются адаптивность и исполнительность. Угадать и услужить. Очень часто приходится делать с огоньком противоестественные вещи, не поддающиеся здравому объяснению, а мерзкие по своей сути поступки совершать со всей вдумчивостью, – ибо иначе ничего не выйдет. Для безопасности здоровья, если человек ещё не эволюционировал в законченного урода, ему необходимо иметь тумблер выключения совести: без регулировки режимов восприятия есть риск серьёзно повредить душу.
Психологически в Администрации легче работается бывшим школьным отличникам. Им здесь проще, и не потому, что они знают на пятёрку родной язык с арифметикой, а потому что привыкли следить за указкой учительницы и слушать родителей. Отличники с пелёнок приучены послушанию, им нравится слепо делать то, чего от них требуют, а не то что сами считают верным. Без чьей-либо поддержки и протекции (что редко случается), отличники в тоталитарной системе приживаются легче, – это факт. Но карьерный путь таких людей всё же не сулит больших вершин, потому что социальные лифты не для них. Лучшее, на что они могут рассчитывать – признательность руководства и уход на пенсию в ранге начальника отдела.
Госструктура также хороша для родительских деток, которые живут не от собственного дохода и не своим умом. «Ты, доча, работай там, набирайся опыта и о дéньгах не думай, они для нас не главное, ты же знаешь…» – говорят мамы и папы. Влиятельным и заботливым людям удобен плавный ввод своего чада во власть: всё под контролем, если что не так, поддержим, договоримся, отведём от места, предназначенного к обстрелу, да и бюджет всё-таки – он надёжнее… Пока родитель зарабатывает и сопровождает подопечного, тот спокойно дослуживается до более-менее нормального поста, и попутно приживается. Как медведи в цирке научаются езде на велосипеде, ребятки приобщаются к госслужбе. Здесь таких много.
Протеже редко тянут лямку всем корпусом. «Своих» стараются не назначать ответственными по приказу за какую-либо деятельность и всячески с ними сюсюкаются. Трёпка возможна только в случае исчезновения прикрытия покровителя или с обновлением команды, но благо, что перемены здесь случаются крайне редко, поэтому опасность минимальная.
Когда Я пришел трудоустраиваться на службу, первым делом, что бросилось в глаза – парковка: автомобили на ней были элитными и самыми современными на тот момент.
«Странное дело, – думал Я, – золотых гор не обещают, а сами все в шоколаде. Не за сверхурочный же такой шик… Вот точно говорят, что они все тут взяточники».
Ответ был ясен спустя несколько месяцев работы: почти у каждого/каждой имелся состоятельный отец или муж. Они здесь не для заработка, а для статуса и перспектив.
Уровень дохода госслужащего среднего звена обычно равен среднему по стране: здесь всё среднее. Казна с голоду не уморит, но и досыта не накормит. Зарплата главного специалиста составляет около 7,5 – 8 тыс. $ в год; каждое повышение в карьере – это увеличение дохода в 1,3 раза. Если есть, пить и одеваться в течение года не за свой счёт, то денег скопится на покупку дешёвого отечественного автомобиля.
Особенностью жалованья чиновника является её редкая индексация. Фонды оплаты труда на местах утверждаются с оглядкой на принятые «Верховным Пленумом» расценки. Если уж курс задан, то ближайшие 6-7 лет точно ничего не изменится, – будь покоен. Даже инфляция с показателем 200% не заставит ничего пересмотреть и предпринять. Бюджет будут зеркалить, пока из Центра не поступят новые указания.