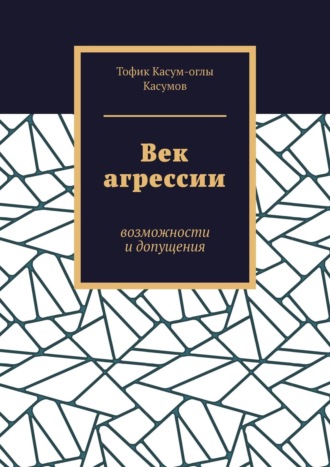
Полная версия
Век агрессии. Возможности и допущения
Надличностная сущность агрессии, как было сказано, это образцы агрессии, изначально усвоенные личностью извне и сохранившиеся в сознании. Они продолжают пополняться из жизненных практик и имеют прямое отношение к проявлению агрессивных действий (ведь наш имярек продолжает их «слышать»). По сравнению с такими близкими понятиями как заражение и подражание, понятие «надличностная сущность» будет устойчивее и объёмнее. Ибо его образцы агрессии включают причинно – следственные связи, потом в своей разновидности и множестве они предстают структурой агрессивного давления на личность. Уже как «банк» образцов агрессии, такие сущности связаны с внешним миром, посредством которого пополняется новыми образцами, и с внутренним миром, поставляя эти образцы для осуществления агрессивных действий. Так надличностная сущность агрессии связывает всеобщее (агрессивные практики в мире) с единичным (поведенческим актом личности в агрессии) в нужный момент и при определённых обстоятельствах. Это существенное условие в возрастании значимости и самостоятельности агрессии в складывании составляющих и обеспечении структурной целостности Века агрессии. Он допускает, что агрессия будет уходить от причинно-следственной отношений, механического ряда причинности, утверждаясь как множество отвлечённых от них сущностей. Ибо сущности агрессии в ситуациях перейдут в блуждающий способ существования. В жизненных мирах они станут прилагаться к поведению в готовых формах, без особой надобности в причинности и каких-то новых образцов агрессии.
Здесь к месту будет сказать, что против причинной связи между явлениями из известных философов выступал шотландец Дэвид Юм (1711—1777). Он полагал бездоказательным существование причинной связи, считал её иллюзией разума, а то и просто привычкой, не более того. Но причинно – следственные связи есть и продолжают быть устойчивыми в объяснительных схемах. Как с этим быть? Ведь позже созвучные мысли мы находим в квантовой теории, предполагающей индетерминизм (отрицание полное или частичное причинности). К этому следовало бы добавить и бытующее мнение о том, что Дух не знает никакой причинности. Последний разворот в отторжении причинности связан уже с постмодернистскими теориями, согласно которым в меняющемся мире (надо полагать и в калейдоскопе причинности) причинные связи как таковые утрачивают свою значимость.
Заметим, что по бытующей логике вещей причина содержит в себе следствие, которое закладывается намерениями и мотивацией. В житейском же плане, в котором нет дел до высокой материи, причинность имеет хождение, чтобы оправдывать неблаговидные поступки. Сохраняет она своё место в межгосударственных отношениях.
Однако в Век агрессии, в век всеобщности и всеохватности агрессии, когда она предстанет как необходимое действие вообще, думается, что не будет особой необходимости выискивать каждый раз отдельные причины событий. Ибо в процессе складывания Века агрессии вся причинность будет запечатлеваться в надличностных сущностях, которые станут срабатывать по принципу реле, реагируя на определённые ситуации. Здесь следует познавать скорее не причины, а границы и горизонты.
В личностном плане укоренившиеся надличностные сущности сподобятся социальным инстинктам, представляя ситуативно актуальные образцы агрессии в причинно – следственных связях. Тогда место причинной агрессии займёт агрессивное действие как «запечатлённое событие» (образец установки на то, как «надо быть и действовать»), которое следует рассматривать ситуационно. Однако причинность полностью не исчезнет, она ослабнет в традиционном понимании как рацио. По мере складывания Века агрессии, причинность будет смещаться в область чувств и там сможет укорениться как фермент – катализатор (закваска) образцов.
В этой связи следовало бы говорить о трёх типичных ситуациях: личностной, националистической и межгосударственной. Личностные признаки и элементы присутствуют во всех ситуациях. Хотя на поверхности вещей всё это продолжает рассматриваться в свете причинно – следственных связей. Но как бы то ни было, агрессия, став самодовлеющей в производстве событий, должна будет по существу сместить рациональную причинность, укоренив её в чувствах как в своей «союзнице». Обретая свою вековую весомость, агрессия станет действенным участником и катализатором во всех процессах, сколько-нибудь значимых для жизненного мира людей.
Предпошлём к данным положениям то необходимое, что метаморфозы агрессии, её возвеличение могли происходить в условиях изменения форм коллективного сознания в мире, и что взаимовлияние этих двух процессов осуществлялось во времени и пространстве складывания структурной целостности века. Такое вызвано неполадками в Доме всеобщего Бытия, когда превалирует хаос и непредсказуемость, альтернативность и многовариантность, случайность и бедствия. Дух агрессии стелется по миру, завораживая людей крутизной действий. И агрессия тогда исходит не столько из желаний захвата, а сколько подчиняясь злу. Обновлённая в метаморфозах агрессия, стремясь к единовластию в Век агрессии, будет противостоять и устранять всякие неполадки однонаправлено на основе силы. И это станет противоборством уже множества агрессий, что будет являться сущностью Века агрессии.
Итак, есть век сам по себе, а в предельном выражении самой сути – есть век как собирательное понятие, которое содержит в себе целостное единение неоднородных элементов жизни, быта и деятельности, взятых во времени и пространстве, и где событийность может выражать особенный смысл. Так выстраивается основной понятийный ряд века, исполненный содержанием и специфической терминологией. Остаётся делать умозаключения и извлекать смыслы существования. Это и есть общий путь познания исторических реалий прошлых веков.
Но текущий век не отвечает в полной мере такому облику и познаваемости, он не законченный ещё «для прошлого», и не оценённый также в своей исторической предметности объект для анализа. Такой век будет направлен на настоящее, и иметь в общей констелляции то, что есть «сейчас» и то, что «становится» (складывается) в развитии. Именно это обстоятельство делает интересным «текущий век» как конструкта для понимании процессов складывания Века агрессии. Что также должно усиливаться личностным присутствием автора, и смеем сказать, интуицией, ибо находясь в самом «текущем», автор обрисовывает процессы складывания и развития Века агрессии, полагаясь прежде на свои представления и опровергая доводами имеющиеся сомнения. Правда, данный подход может говорить кому-то о преувеличении авторских возможностей, а сам опус будет смотреться тогда как нечто «около того». Но «того», как текста, ещё нет по существу, а у нас впереди вся книга, чтобы размышлять и свободно высказывать свои суждения о складывании Века агрессии.
Сложность вопроса в том, что то явное, которое проще даётся собственной субъективности, будет иметь много общего с агрессией и жестокостью прежних веков, в то время как сущностное Века агрессии, созревая исподволь, может только в процесс складывания обнаруживать себя. Поэтому важно в активных элементах текущего века, а это прежде всего чувства, мысли и действия, попытаться увидеть и рассмотреть в частностях складывание структуры Века агрессии, действующих во имя зла. Понять когда метаморфозы агрессии при стечении разных обстоятельств задают тон, а носителем задействованных элементов становится множественный индивид как персонаж Века агрессии. Такую множественность также задают сами чувства и чувствование, и тогда следовало бы сказать – здесь чувства будут править бал. И понимать это как устойчивую обстоятельность, то, что есть некая чувствительная структура, которая актуально воспроизводит агрессивный настрой, а по сути предметность зла, не нуждаясь особо в причинности. В обосновании такой установки примем то, что чувства в части потока эмоций, зачастую опережают разумность поведения, в то время как мысли отстают или устраняются без дополнительных стимулов, а то и «оживляжа».
Всё это может восприниматься и отмечаться в текущем веке, которое пребывает в настоящем, Но само настоящее уходит, оно переходит в стадии «отдалённого настоящего» и «узнаваемого настоящего», чтобы стать окончательно «прошлым». Век агрессии складывается и «крепчает» на этих стадиях. В это же время изменяется традиционная связка: причина – агрессия – следствие (урон, разрушения). Развивается связка, где своё место занимает беспричинная, самоактуализированная агрессия, действенность которой обуславливается структурой агрессии внутреннего мира и разветвлённостью надличностной сущности. В текущем веке растёт опыт восприятия и следования самоактуализированной агрессии, что в конечном счёте следует отнести к последствиям метаморфоз самой агрессии.
Действительно, агрессия во все времена осуществлялась с целью захвата, отъёма или защиты. В такой заданности она подчинялась причинности, исходила из неё, чтобы «быть», как в том, так и в другом случае. Но в Век агрессии детерминированность агрессии ослабляется, она всё больше становится самодовлеющей по естеству сложившихся вещей, в частности, когда утверждается как элемент, атрибут коммуникативных отношений и связей. Её сила обуславливается множеством надличностных сущностей агрессии в мире людей. Таким образом, агрессия по сути становится самостоятельной сущностью уже в текущем веке, она во множестве витает в жизненных пространствах, укрепляясь как надличностная сущность.
Как можно было понять в таких установках имеет место субъективное обособление авторской позиции, как и то, не станем забывать, что начало всякого знания бывает субъективным. Для нас это прежде всего предметное дистанцирование от исторического измерения века. Ведь как уклад жизни и событийный ряд век традиционно исследуется историками в прошедшем. Они знают в этом толк, когда доводят до нас свои описания и интерпретации значимых фактов, то, что «было». Всё это относится к историческому содержанию века и выдаётся как повседневное, так и особенное в прошедшем. Мы будем иметь дело с содержанием текущего века в складывании Века агрессии, но это вовсе не означает, что не станем заглядывать в дальние века, чтобы уточнять направленность общего движения, свои ориентиры по изменённым состояниям агрессии.
Что касается самой агрессии, то здесь надо прежде всего обратиться к психологам. Это они давно и обстоятельно занимаются агрессией как разрушающими эмоциями и чувствами, выражаемыми в поведенческих действиях. Приоритетным для психологов является выявление причинности агрессивного поведения. В научном обиходе имеется ряд психологических теорий агрессии отвечающих этому вариативно, то есть с разных позиций. Однако не смотря на это и имеющиеся в них противоречия, можно говорить о выверенном банке психологической причинности агрессии. Ведь не зря же психологи по праву считаются зачинателями и сведущими в этих вопросах.
Такое познание своего предмета и наработки у историков и психологов происходили как следовало бы понять по отдельности. Вместе понятия «век» и «агрессия» предметно не рассматривались, разве что встречаются в публицистических статьях у отдельных журналистов-международников, которые делают публицистические заявления – прогнозы о грядущем Веке агрессии под водительством США. Но при этом Век агрессии не был вовлечён в научный обиход и такая проблема, как нам известно, даже не ставилась. Не ставился вопрос о том, что связывает век и агрессию в едином горизонте бытия, способным быть предметно обозначенным. Разумеется, что не выработан и «язык», комплекс понятий, чтобы можно было судить о Веке агрессии, исходя из связующих моментов.
В то же время мы знаем, что соединения двух слов, выражающих общий смысл, остаются чаще всего словосочетаниями, хотя и могут строиться по принципу подчинённой связи и иметь указующий характер. Но отдельные словосочетания поддаются категоризации, то есть формализируются как категории для отражения свойств и связей действительности. Например, словосочетание образ жизни было формализовано философами как категория для изучения основных черт жизнедеятельности людей, в зависимости от совокупности действующих факторов, и прежде экономического порядка. К числу таких словосочетаний отнесём и Век агрессии, который на основе приемлемой формализации может стать категорией понимания не только новых реалий жизни, но что также важно позволит увидеть смыслы, задаваемые агрессией. Пройти вместе с агрессией её путь возвеличения как силы знаковой для века, представляется нам вполне насущной и решаемой проблемой. Здесь надо бы прежде уповать на философию, которой дано «по праву первозданности» и основательности в познании всего сущего в первую очередь наполнить синтетическое понятие Век агрессии содержанием и разжечь к нему интерес в других дисциплинах.
Познание сущности, основ и смыслов, которые несёт текущий век, станут краеугольными камнями в философии Века агрессии. Но какие философские цели будут важны и приемлемы в таком случае? Мы находим их в определении философии американским философом Сьюзен Лангер. Это – «Постоянные поиски значений и смыслов, более широких, более ясных, более доступных, более отчётливых, …". Сьюзен Лангер. Философия в новом ключе. М.,2000. С. 261. Это философия поиска, а не достижения последних оснований. Руководствуясь этим и пониманием важности «снятия первой мерки», мы попытаемся в философских размышлениях соотносится с психологией и социологией, и речь также может идти о смежных дисциплинах, близких в своей предметности к истории и психологии.
В этой связи уместно будет сказать об имеющимся опыте в этой области. О попытке соединения истории с психологией, об исторической психологии, которой сподручнее было бы, если и не ставить, то включаться в разработку подобных тем, будь она такой как задумывалось, уже исходя из самого названия и при должной методологической оснастке. Действительно, если век отнести к истории, а агрессию – к психологии, то и получается, что кому как не исторической психологией следует заниматься разработкой проблем Века агрессии. Но с ней как с состоявшейся научной дисциплиной не получилось на тот момент. Ибо не был должным образом выработан концепт единой науки и общий метод, а сделаны лишь намётки и выданы пусть и любопытные, но фрагментарные наблюдения и вещи.
Однако уже первые шаги исторической психологии в предметной стыковке истории и психологии были представлены в качестве скорее состоявшейся научной дисциплины (Иньяс Мейерсон, Жан Пьер Вернан, Альфонс Дюпрон и др.) в середине 19 века во Франции. По сути же это был проект, который зиждился на исследованиях качественных особенности личности, ментальности наций и метаморфоз психического. Упор делался на психическое (психологию личности и пр.), историчность как таковая не была с этим органически связана и носила в целом абстрактный характер и в отрыве от него. В поисках же своей территории предъявлялись права на «земли» исторической антропологии (А. Дюпрон). В отсутствие чёткой методологии и разбросе предметности, без должного обоснования своей территории, а практически её отсутствия, проекту не суждено было осуществиться в таком виде. Более того, век, в котором бытийность вызревает как историческое, век как выразитель и предмет анализа исторического и психического во времени, практически не был представлен, в то время как именно век, в событийности отгораживая и противопоставляя друг другу части, служит скрепом ментальности для каждого из них, а со стечением обстоятельств определяет «нужность» той же роли личности, делает востребованными определённые её качества в историческом времени. Если такая личность находится и заявляет о себе, производя или инициируя историческое событие, то тем самым она вступает в «историю». Век продолжает свой путь с учётом происшедших изменений, а личность становится знаковой фигурой в истории конкретного века.
Такое понимание роли личности в «историчности», и вообще места и значений человека на просторах истории, высказывали авторы «проекта». Так, И. Мейерсон и его последователи обрисовывали в целом поведение человека, его изменчивость в контекстах истории. Но этого было недостаточно, ибо не было представлено само"тело“ новой науки, когда бы можно было говорить с одной „своей"территории, излагать предлагаемое в своих понятиях и выдерживать тексты в объяснительной логике. Такое «тело» научной социологии смогли создать Огюст Конт и Герберт Спенсер, а Э. Дюркгейм и М. Вебер это «тело» во многом укрепили и сделали приемлемой, отвечающей самостоятельностью – методологий и методами строгой научности к нуждам практики. Однако «историческая психология» не получилась обособленной и самостоятельной, как это было сделано с контовской социологией. Здесь, видимо, в расчёт следует принять и то, что у исторической психологии не было учёных, равных тому же Э. Дюркгейму, который с философской широтой и пониманием нюансов коллективных представлений, смог выделить сущность социологического на примере своих исследований общественной жизни и во многом обосновать вслед за О. Контом социологию как научную дисциплину. Социология была обоснована и представлена востребованной как научная дисциплина для нужд практики, решения различных задач, связанных с взаимодействием в коллективной жизни.
Что касается В. Дильтея и Э. Шпанглера, которых связывают с исторической психологией, то Дильтей скорее видел историческую психологию как обоснование для своей понимающей психологии, а у Шпанглера она утопала в его теории развития цивилизаций. Нельзя не сказать и о названии «историческая психологи», которая может ассоциироваться с историей психологии.
Всё названные и возможно ещё другие недочёты и привели к тому, что историческая психологи не пошла «дальше» сделанных шагов и растворилась в социальной психологии, став отдалённо предметной областью. Правда, попытки выдать историческую психология за самостоятельную науку продолжались эпизодически вестись специалистами, работающими на стыках двух наук.
В истории создания научной дисциплины нередко господствует судьба, предопределяя, а то и сдерживая («не судьба») раскрытие её скрытых возможностей. В этом смысле судьба исторической психологии есть пример «недостроя» в науке, когда субъективные начала не смогли предначертать пути по реализации потребностей в данной научной дисциплине. Но если судьба не выдала своего Конта, то надо было идти другим путём – размышлять, делать первые наброски, но без окончательных утверждений о том, что «получилось», пока не созреет сам «плод» уже по науке. А набросок и есть набросок, о нём можно критически высказаться и даже отвергать что -то по сути, но при всём этом нельзя исключать саму идею и продолжать расширять и развивать тематическое, пока не станет вырисовываться абрис «нового». И если начинать и объявлять своё творение как «новое», то делать это следует по примеру О. Конта, «сразу» – размашисто и даже вопреки существующим представлениям и текстам, предъявляя само «тело» науки. Видимо, за такую необузданность и воспринимали Конта поначалу как сумасшедшего, но разобравшись признали основоположником социологии. Конт сформулировал «Закон о трёх стадиях» умственного развития, различая их как «теологическую», «метафизическую» и «позитивную». Последняя стадия стала рассматриваться автором в качестве основания для развития социологии как позитивной науки.
Историческая психология не была преподнесена с размахом, не имела обоснований, сформулированных в виде Закона, потому и не смогла обрести статус самостоятельной науки. Однако окончательный вердикт не вынесен и она не сосем «ушла». Ибо историческая психология в некотором роде сохраняется и даёт о себе знать, возможно, что ей удастся укрепиться в своей полноте и Век агрессии прочно займёт своё место в ряду её проблематик. Вот мы об этом и важности самих начал как широты и накала в утверждении тематического. И первым делом необходимости тематизирования как сложной «выкройки» аналитических вопросов из поставленной проблемы и соблюдение чёткой нацеленности на предметность.
Теперь об исходных позициях. Уже само название"Век агрессии» говорит об извлечении агрессии «изнутри» века и ставит её рядом с веком в качестве определителя его видового признака, что, несомненно, свидетельствует о её возвеличении. Однако реально агрессия сохраняется внутри века и только так она может определять век. Такая двойственность усложняет структуру агрессии и делает её многозначной. Чтобы минимизировать разнобой и иметь общие ориентиры в масштабах Века агрессии, мы станем исходить из того, что родовым признаком агрессии является зло, а видовым – способы и масштабы разрушения (военная агрессия, террористическая агрессия и криминальная агрессия). И тогда о значении агрессии века можно будет судить как в отношении способа (меры) разрушений ко злу, а не только причинности, что представляется важным для понимания специфических особенностей Века агрессии. Отсюда обозримы и различения значений и смыслов, которые корреспондируются (соотносятся) во зле. Когда возвеличение вековых значений агрессии будет тесно связано с ужесточением и всеохватностью смыслов зла. При том, что " … человек носит в себе как инфекцию некое зло, чьё внутреннее присутствие временами, краткими вспышками обнаруживается для него в необъяснимом страхе». Сёрен Кьеркегор. Болезнь к смерти. М., 2012. С. 39.
Но человеку, думается, всё же удаётся перевести свой страх, идущий от зла в агрессию, а не пребывать из-за этого целиком в отчаянье, как пишет Кьеркегор. Конечно, такое будет характерным для Века агрессии, не в пример христианскому миру Кьеркегора. Ибо здесь сам дух Века агрессии восходит ко злу в его единении с агрессией.
В свою очередь Век агрессии, будучи выражением сущностного в жизнедеятельности, предстаёт двумя сущностями в ипостасях: как «определяющая» сущность, и как «определяемая» сущность. Как сущность определяющая Век агрессии выражается стечением обстоятельств и отклонений, порой и спорадических, которые содействуют агрессии. Ибо в своём множестве век не является лишь «пустым» вместилищем для размещения и удержания частей в своих границах, он есть фактор воздействий и влияний; век может говорить с нами подобно духу времени. Уже как определяемый Век агрессии раскрывается в приоритетности тематических вопросов. И прежде вопросов о том, как складывается Век агрессии, о бытии агрессии в её взаимосвязях со стечением тревожных обстоятельств. Здесь выступают два сущностных момента, связанных с состояниями агрессии, которые по нашему разумению также не лишены гипотетических начал.
Во – первых, это то, что агрессия как сущность по большей части пребывает в чувствах, а значит её понимание требует вчуствования, в проникновении в неё как предмет познания; преодолевая, скажем, «смотрение» со стороны лишь как на познаваемую вещь. И что совокупное чувство есть поток первичного в оценивании и воображаемом. И что сущность агрессии в её существовании, а существование агрессии есть разрушение. Агрессия не строит повседневность, но производит ту событийность, которая расстраивает её обычное течение. Одновременно, подчеркнём важность и необходимость персонализации самой агрессии, чтобы можно было её «услышать» как познаваемое «в себе».
Вторым важным моментом следует иметь в виду то, что бытие агрессии традиционно насыщается субъективностью, которое становится различимым и определяющим по силе субъекта. И если первый момент должен говорить нам о приоритете чувствования в агрессии, то, второй – о субъектах агрессии, различимых по силе и возможностям. Эти моменты в той или иной мере корреспондируются с изменёнными состояниями агрессии. И уже в новом качестве, конституируя себя как сущее, агрессия объективно ведёт к ослаблению единовластия человека как субъекта агрессии, став надличностной сущностью. По аналогии, скажем, с теми же бездушными машинами, которые сделали человека своим рабом.
Итак, есть два момента, которые связаны между собой в движении агрессии, и это должным образом находит себя в общей картине Века агрессии. Они закладываются в основу наших размышлений и суждений. Но вначале вкратце скажем о том, как сами понятия «агрессия и век» могут быть связаны между собой и какие отношения они выражают. Так, на уровне понятий Век агрессии предстаёт как часть и целое, при этом подчеркнём, что агрессия является частью только для века, ибо для других она служит скорее началом. Например, для войны или восстания масс.
Понятие «век» будет выражать сложное целое, включающий множество различимого, при постоянном изменении частей. А агрессия в отношении его может стать определяющей силой и смыслом. Они предстают в общей связности на основе жизни и деятельности. Агрессия, выступая как часть, отдельное, является в значениях события, которое схватывается чувствами и может ещё долго существовать в сознаниях как сущее. Век же сам по себе есть условность, будучи родовым понятием, он насчитывает в истории множество видов, существующих реально во времени. Например, бронзовый век, и метафорически – век милосердия и любви. В своей действительности век предстаёт как упорядоченное «историческое» время в делах и событиях, он выражается как целое, благодаря связности со своими частями. И от важности той или иной части, её приоритетности в мире людей, зависит то какими будут эти связи и что станет происходить. Во все времена связи агрессии с веком носили предельный характер, не смотря на усиление агрессии, её количественный рост, в результате длительных и ожесточённых войн.

