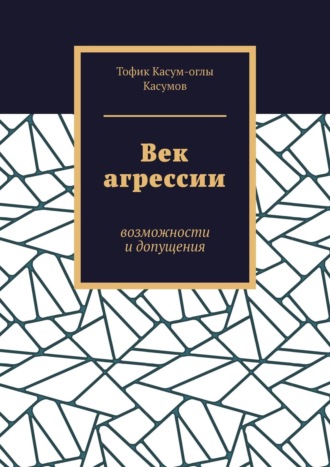
Полная версия
Век агрессии. Возможности и допущения
Это ключевые моменты преддверия, выражающие происходящее и последствия по складыванию и взаимосвязи всех элементов, соотносимых хоть как-то с агрессией в круг целостности. Скрепляющая роль здесь выпадает чувствам людей, когда их взаимосвязи находят разрешение в агрессии, что во множестве объективирует всеобщность агрессии как данности. Именно с заострённостью чувств на агрессию, жизнь людей будет спешно перемещаться на тёмную сторону действований и такой перелом в чувствах и в образе жизни не может происходить возвратно без переживаний и изменений душевных качеств. Ибо соприсутствующее зло материализуется в действиях, чувствах и помыслах людей, что рассматривается сущностным моментом в многозначных процессах складывания основных элементов Века агрессии в целостность. А само преддверие Века агрессии должно будет завершиться апофеозом агрессии тогда, когда она окончательно завоюет чувственный мир и в такой действительности возьмёт в осаду мир духовный, ограничив его возможности. Так агрессия утвердится в мире людей, став постоянно воспроизводимой энергией в отношениях отъёма, соперничества и конфликта. Лишь случайность истории может отстрочить и внести изменения в преддверие Века агрессии.
Однако преддверие не есть только одно складывание в целостность составляющих, иначе не понять и апофеоз агрессии, который возвышался в своих значениях именно в этих условиях. Это по существу длительность как бытие преддверия в жизненном смысле со своими со-фактами, смыслами, событиями и случайностями. И если события в целом сообразуются с порядком и направленностью складывания, то случайности их нарушают, отдаляя или ускоряя момент разворота.
В полагаемой связности силовых действий по жизни, вызываемых ими чувств и опасений, агрессивный способ социализации и индивидуализации будет уже простой необходимостью и частью жизнедеятельности. Инстинкт же агрессии дополнится усвоенными образцами агрессивного поведения и станет автоматически воспроизводить в отношениях агрессивный опыт. Правда, такое скорее следует отнести к завтрашнему дню. Но можем ли мы сегодня говорить, что очертания агрессивного века, опережая будущность целостного выражения, выступают уже в наглядности своих первых тревожных признаков, и что они могут осознаваться понятийно и фрагментарно в разных областях знаний как предвестники Века агрессии? А быть может и философски домысливаться в полагаемом единстве как целостность.
Если признать справедливость высказанных мыслей и предположений, то может возникнуть повод размышлять о назревании и путях складывания Века агрессии. В этих целях примем преддверие, процессы складывания Века агрессии за предмет. мыслимое содержание которых будет связано с темой изменённых состояний. Но будет ли предметно то, чьё существование является ещё вопросом? Обратимся за разъяснениями к философии, где принято считать, что понятие реально существующего предмета ничем не отличается от понятия того же предмета, мыслимого в качестве возможного. Здесь у нас нет вопроса по логике выстраивания аргумента, когда мыслимая реальность охватывается логическим и понятийным мышлением, и такое опредмечевание будет вполне допустимым в размышлении. Тем более, что в нашем случае нет и реально существующего предмета Века агрессии как целостности. Однако оговоримся, что представления о предмете должны будут выверяться на основе понятийных связей между основными составляющими Века агрессии.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что речь может идти о неопределённом предмете и относительности суждений. Чтобы они могли быть сопряжены с будущностью века надо, по крайней мере, основываться на понимании двух вопросов: почему сейчас возникли предположения о Веке агрессии, и что лежит в основе этого? Отвечая на эти вопросы в книге мы будем делать два шага вперёд в наших суждениях о Веке агрессии и шаг назад – в сомнение. Они будут связаны как с выявлением основных характеристик Века агрессии как целостности (объект), так и путей, механизмов складывания составляющих в преддверии (предмет). Метафизические экскурсы здесь неизбежны, ибо объект (Век агрессии как целостность) относится к сфере невидимого. Но вначале следует определиться с тем общим, что характеризует объект и предмет как целое и часть Века агрессии.
Определиться с объектом размышлений значить выделить в нём то «определяющее» (в нашем случае ряд основных признаков), что может характеризовать его в целом, и в дальнейшем стать его «именем», по которому он будет узнаваем. Объект Века агрессии может лишь предвидеться как таковой в будущности своих основных признаков. Однако его предметность имеет как бы своё собственное существование, но не в смысле, конечно, платоновской идеи, а как образ или мыслимые взаимосвязи структурных элементов. Поэтому для «указующего» предмета важно, во-первых, привести доказательства в пользу различимого, и во-вторых, установить логические связи между ним как «определителем» и определяемым». А в наших целях следует указать круг связующих элементов предмета Века агрессии, чтобы начать предметно размышлять об их значимой роли и связях. Такой предмет будет связан с темой изменённых состояний, взаимодействием чувств и поведенческих действий, где ключевым будет возвеличение агрессии в глобальном плане как значимого фактора складывания целостности Века агрессии.
Итак, исходя из новых замечаний о субъективности и сделанных допущений, Век агрессии представляется как некая социальная целостность (картина), взятая во времени и пространстве. Ключевым моментом здесь являются люди и их отношения. В значительной мере эти отношения будут характеризовать новое качество человеческой агрессии. Это будет проявлением агрессии в «родном» веке, когда она станет по сути «обиходной» и вольной в людских отношениях, и востребуется не раз для многих сторон жизни. К такому мир людей может прийти в результате как изменённых состояний самой агрессии, так и различного рода стечений в жизненных обстоятельствах, определяющих прежде всего напряженность в связях между явлениями. Тогда агрессия на агрессию должна будет возобладать в жизненных пространствах и стать всеохватной и всеобщей, чтобы эффективно выражаться и противостоять в каждой борьбе. И сами мысли будут в унисон с нею течь и развиваться в событиях, курс которых станет определять смыслы агрессии.
Однако в силу наших полаганий о назревающем Веке агрессии, мы найдём лишь некие предсказания относительно глобального развития враждебности и напористости в мире людей, а также предсказуемые риски возможного. Такие предвидения выражаются посредством рыхлой цепи фатальных образов будущности мира. К ним, собственно, и прилагается само искомое понятие в границах времени века. Именно на таких началах входит в обиход и становится употребительным понятие «Век агрессии» как мыслимый объект, который осваивается понятийно, первоначально языком политики как процесс и выражение тревожно – годичного на смысловой стороне политической действительности, когда и само грядущее Века агрессии должно видится во всеобщности враждебной политизации и действий.
Поэтому не будет преувеличением, если сказать, что, выражая всеохватно противостояние как больших, так и малых государств, политика враждебной наступательности уже сама по себе свободно шествует по миру. Она исподволь проникает в сознание людей, определяя тревогу и глобальную напряжённость. В самих же обществах соразмерно усиливается социальный настрой на межнациональную конфликтогенность, расширяя и наполняя политической агрессией жизненные пространства.
В политике «противостояний» мы находим сущностные смыслы захвата и порабощений, связанные с агрессивными смыслами войны (смыслоагрессии войн). Эти смыслы будут «утопать» в «историчности» прав на захват чужих земель (пример тому Армения), в обосновании политических преимуществ и привлекательности строя жизни, имеющих право на установление своих демократических ценностей, их глобального вживления в тело человечества (США). Разумеется, такая политика не может не сообразовываться с реальными возможностям и установками на ведение войны.
Но если мы попытаемся извлечь и как-то «взвесить», смыслоагрессии войн, что с необходимостью должно выявить прежде разумное в принятии решения «напасть», то увидим, что политике войны ничто человеческое не бывает чуждо. И что порою надуманные исторические картины, обиды, вперемежку с завистью, а то и сами амбиции величия и национального превосходства, могут брать вверх. Брать вверх вопреки разумно-рациональному и авантюрно провоцировать военные действия.
Такая политика, исходя из силы и враждебных чувств, задаётся вместе с «риторической агрессией», с которой одномоментно могут уживаться как чувства нахрапистости и безответственности, так и тревоги со скрытым чувством страхом за свою безопасность. Совмещаясь в общем «политическом вареве» и изливаясь вовне, вершители такой политики будут «страшить» и «страшиться», продолжая своё посильное участие в политике нацеленности на то, чтобы стать действительностью реальной войны. И тогда политика как «агрессия в себе» может статься «агрессией для многих» в мире людей. Она становится таковой в событиях, характерных для таких отношений, когда враждебный настрой приводит к агрессивным вылазкам. Политика, выраженная таким образом в действиях и ожиданиях враждебного, что должно обрекать на особые чувства и переживания, может реально претендовать на то, чтобы подспудно быть одной из составляющих в складывании Века агрессии.
Однако само понимание и осмысление процессов складывания Века агрессии в философском или психологическом плане будет много шире политического, укладываемого по существу в русло войны. Ибо многое в нём будет предопределено жизненными мирами, особенностями человеческой коммуникаций и восприятий. Притом, что о Веке агрессии в настоящем можно говорить условно как о целостности, структурные элементы которого разбросаны по естеству своего образования. Они действенны сами по себе, но особой связки и связующей материи между ними нет, чтобы выразить их воедино. Нет развития тех сущностных элементов, которые могли бы обеспечить такую полноту. Поэтому Век агрессии при наличии основных элементов, не имеющих связности между собой, может находиться лишь в процессе складывания своей цельности, когда человек экономический и человек играющий могут уступать во множестве человеку агрессивному. Он и будет носителем сущностных черт Века агрессии во всех сферах жизнедеятельности и неопровержимо свидетельствовать о значимости агрессии, её всеохватности и всеобщности.
Мы попытаемся подступиться к этим проблемам, выявлять здесь значимость чувств, чувствований и переживаний, обговаривая сам предмет и родственные проблематики. Однако прежде вкратце сопоставим понятие «век» с подстрочным понятием «годичность», что позволит различать их как назревающее, так и сподобившуюся этому целостность века, а также инструментальных понятий сознания, выделяя прежде «сверхсознание» и «обыденное сознание» как мысли, выражающие саму агрессию и то, как она есть. Другие основные понятия ещё впереди, и по мере раскрытия вводной части они предстанут, где за главную будет рассматриваться понятие «агрессия», которая имеет богатые исследовательские традиции.
Это родовое понятие, совмещающее агрессивное чувство и агрессивное действие (нападение) в агрессивном поведении. Как жизненная практика, агрессия есть начало событийности со смыслами, чреватая своими последствиями. Вкупе все эти элементы, выраженные в значимости событийности, служат «строительным материалом» для Века агрессии. Здесь нельзя не сказать о доминирующих тенденциях в направленности агрессивных действий от микроуровня множества видов агрессии до макроуровня агрессивных норм, от складывающегося Века агрессии до его устойчивости и целостности. Эти тенденции таятся в событийности времени, выступающих в развитии исторических реалий века.
Если говорить уже обобщённо, то каждый век пронизывается темпоральностью (особенностями времени), что понимается сознанием и осмыслением прошлого, настоящего и будущего. Применительно к Веку агрессии, что связано с возрастанием роли агрессии, это будет выглядеть так: прошлое – предстаёт автономной агрессией и разрозненными факторами влияний. Настоящее есть собственно складывание Века агрессии на основе разрозненных элементов и укрепления силы связей между ними и агрессией. То, как Век агрессии складывается и предстаёт в действительности будет предметом наших размышлений.
Будущее агрессии в веках нам видится скорее в мире статических форм, в мире мозаично-изменяющихся энергий. Как это будет происходить и какова будет роль людей сложно сказать. Однако можно предположить, что в мире статических форм Век агрессии продолжится, или он распадётся на разрозненные элементы агрессивного, и тогда агрессия по существу вернётся к границам и месту прошлого пребывания. В мире динамических узоров энергия агрессии предстанет силой, утвердившей мир чувствований, который будет ближе к миру вибраций. Последнее станет означать переход от мира плотных форм, к вибрирующим импульсам. В этом смысле агрессия уподобится импульсу. Людям следует готовиться к такому пониманию агрессии, к пониманию его на уровне вибраций, и не упорствовать в изжитии или полагаться лишь на возможности управления агрессией. Но это скорее видится как отдалённая и фантастическая перспектива, о которой мы только сочли возможным упомянуть, никак её не развивая, ибо наша задача не фантазировать, а размышлять и по возможности предметно и зримо.
Теперь об изначальной понятийной стороне, о которой мы начали говорить, и о том, что может выражать новая сторона в нашем тематическом раскладе. Такую сторону образуют век, годичность и сознание. Понятия «век» и «годичность», имея разную пространственную «весомость» и объёмность, связаны между собой тем, что содержание и смыслы века задаются «веществом», материей годичности. Век же, помимо измерения времени, является выразителем характера вещной предметности и значимой событийности. Надо признать и то немаловажное обстоятельство, что век и годичность могут и должны постигаться определёнными видами сознаний. На уровне века, его протяжённости, характеристик и предельной наполняемости во времени и пространстве, мыслит, как правило, сверхсознание, которое желает охватить и понять целостность, связывая с этим поиски истины. Ясно, что ядром сверхсознания будет теоретическое сознание. Такое сознание может также сподобиться потустороннему, трансцендентному, когда попытается «заглянуть» за границы видимого (чувственного опыта). Абстрагируясь таким образом оно будет постигать то, что не видно и не могло быть таковым в практичном сознании.
В повседневности, на уровне годичности речь обычно идёт об обыденном сознании, которое в основе своей имеет опытное сознание и полагается чаще всего на здравый смысл. Как правило, обыденное сознание довольствуется «годичностью» и событиями в ней. Так, важные события, выражаемые общепринятой культурной идентичностью – рождение и смерть – измеряются и отмечаются «годичностью». Подобное сознание, будучи сознанием практическим, охватывает то, что «рядом», не переступая границ повседневного, и его заботит скорее ритуальность и прилежность исполнения, без того, чтобы задаваться теоретическими поисками истины.
Эти виды сознаний – и сверхсознание и обыденное сознание – придерживаются своих границ, однако возрастание смыслов чувственного бытия, смещение чувств и мыслей разного уровня сознаний, наряду с усилением, собственно, чувствований (чувств, созревающих помыслами), может всё изменить, встроив мысли и действия в чувственный ряд. Устойчивые нарушения границ сознаний, с переливами их содержимого, при возрастании чувствований и переживаний – это фактор реальной жизни, ибо он ведёт к снижению критики на выверенность знаний и действий, роста их гибридности. Это уже вплетается в процессы складывания Века агрессии. Нам предстоит по существу обосновать эти значения чувственного бытия. Однако вначале скажем о базовом – о том, «что такое сознание»?
Сознание как таковое есть то, что связано со знанием (пониманием) и практическим обусловливанием различных видов поведения. Гегель различает понятия наивного сознания с помощью чувств («чувственной договорённости») и полного знания («абсолютного знания»). Чувства здесь, как видим, даются несколько приниженно, а их роль в сознании даже умаляется, ибо они не дают полного знания. Однако их значимая роль будет в другом, ибо они и есть тот основной связующий материал, который будет обеспечивать целостность Века агрессии. В наших размышлениях чувства рассматриваются как первообраз видимого и невидимого, последнее будет больше связанно с чувствованием и переживанием. В разной мере все эти состояния чувств задают ход мыслям и поведению. Мы станем особо примечать чувства, чувствование и переживания в том, как они влияют на поведение, а в единстве, будучи некой ментальной структурой, даже определяют поведение.
Различимое же в видовых сознаниях можно будет рассматривать, основываясь на следующих моментах. Так. в обыденном сознании события годичности в своей повседневности понимаются сравнительно «свежо» и наглядно, и не только потом что они зиждутся на фактичности, и это даёт больше чувств, чувствований и экспрессии. Век же, как объект теоретического сознания, предстаёт в обобщениях, основанных на культурных единицах (артефактах), и тем самым способствует пониманию характера изменений во времени. По сути век наполняет и укрепляет смыслы годично – событийного во множестве, и не затем, чтобы личности со знанием «влиться» в череду поколений, ведь есть вещи высокого, обобщённого порядка и историчности. Поэтому в соотношении годичности и века примем то, что если первое станем рассматривать в количественном отношении, то второе – предстанет в качественной определённости, ибо количество переходит в качество. Но из каких элементов (действий) и как складывается новое качество – вот в чём вопрос. На этот вопрос мы станем отвечать всецело, пытаясь концептуализировать проблематику Века агрессии на этапе его складывания. Но мы, как уже отмечалось, полагаем априори (лат. a priori – буквально «от предшествующего»), что агрессия станет всеобъемлющей. Однако это совсем не значит, что люди начнут кидаться друг на друга. Нет, мы имеем ввиду то, что агрессия займёт главенствующую роль среди многих чувств, начиная с родственного ей чувства мести.
Выражая субъективность ситуаций мы станем прибегать также к обыденному сознанию, различая условно имярека и множественного индивида. Имярек выступит у нас больше как носитель традиционного поведения, а множественного индивида мы станем рассматривать в качестве персонажа Века агрессии в становлении.
Множественный индивид – это не количественная, а качественная характеристика индивида, вынужденного действовать напористо и вариативно, в условиях неопределённости, непредсказуемости и нестабильности. Он напоминает мифологического Протея, сына Посейдона, постоянно меняющего свой облик. С изменением социальной ситуации множественный индивид часто меняет и свои ценностные ориентации и установки, что обеспечивает ему соответствие требованиям необходимой ситуации, а значит и выживаемость. В своём социальном поведении множественный индивид, как правило, руководствуется принципами «всеохватности» и «всенацелённости» на максимальную полезность. Эта установка укоренилась в его жизни так, что он поступает почти всегда автоматически, подсознательно, когда надо делать много телодвижений, чтобы через множество поведенческих актов (опытов) выйти на максимальную полезность. Ибо сама социокультурная ситуация становится множественной и вариабельной, требует от него множественности как формы второго порядка, отличающейся от своей первоосновы (индивида как атома социальной структуры общества) множественностью действий. Да и сам индивид будет больше задаваться множеством смыслов. В таком единении множественного индивида и социокультурных ситуаций, вызванных стечениями обстоятельств, делаются неоднозначными и процессы складывания Века агрессии. Однако можно предположить, что в своих поведенческих вариациях множественный индивид будет склоняться к агрессивному поведению. И тогда произойдёт смена человека разумного и человека играющего на человека агрессивного. Эти процессы приходятся на период складывания Века агрессии, когда укоренение человека агрессивного будет означать утверждение целостности Века агрессии, всех значимых характеристик. Мы ещё будем говорить об этом, когда станем рассматривать множественного индивида как персонажа складывающегося Века агрессии, а пока вернёмся к сознанию, к вопросу понимания характеристик века и значениям его имени.
Индивиду, действующему со знанием, но «не заглядываещему в век», думается, всё же будет интересно знать, при каких обстоятельствах происходящее годами, обретает вековую значимость и становится сущностной характеристикой века. Возможно, что эти характеристики века смогут сами по себе способствовать пониманию не только смыслов существования. Будь это факторы материальной жизни, особой нацеленности культуры или же новой реальностью, связанной с изменениями в социально – психологической жизни По своей роли эти доминанты века скорее всего станут показательно определять имя собственное, например, железный век. Но что нам даёт имя, и как оно бывает связано с сущностью именуемого? Поясним это на примере слова тревога и вопросов по ней. Например, может ли слово (имя) «тревога» подсказать нам её сокровенную сущность? Нет, ибо «вначале» здесь было чувство, предвещающее страх, а не имя. Может ли чувство тревоги раскрыть нам своё рождение? Нет, ибо это чувство даётся лишь встревоженной тенью бренного существования, а всё остальное в тревожном ожидании «достраивается» воображением и печальными примерами из прошлого. Может ли обыденная мысль понять смысл тревоги во всеохватности и помыслить её как чистое событие? Нет, ибо она признаёт по существу лишь рациональное, а здесь без «напряжения понятия» (Гегель) не обойтись. А что говорит нам сама тревога и что уже стало обыденным пониманием? И на какие просветы и горизонты тогда указывает философия в понимании сущности тревоги? Подробнее об это будет сказано в разделе о тревоге. Здесь нам важно было указать на общую методологию того, что есть имя как конструкт. Для тревоги это чувство, а для века – доминанта как сущностная характеристик. Во что они выливаются и чем бывают значимы для жизни людей эти доминирующие характеристики? Смысл же самого века, его извлечение, в свою очередь, будет связан с тем, чтобы иметь представления об укладе и образе жизни, о событийном ряде во времени. Ибо смысл есть то, что извлекается субъектом из вещи, явления и видится в нарастающих событиях, совмещение которых должно служить пониманию происходящего в настоящем и будущем. Например, для текущего века одним из таких событий, безусловно, будет коронавирус, а смыслом борьба с ним, и то, что можно из него извлечь для понимания «режимного поведения» людей, в связи с длительным карантином. Мы будем ещё говорить об этом в контекстах возрастания агрессивного.
Целостность Века агрессии обеспечивает сама агрессия, которая «живо» присутствует во времени и пространстве, делает целокупным (максимальным) само существование и разрушение элементов жизнедеятельности. Что предстаёт тревогой, страхом и переживаниями, выраженными в агрессии, с одной стороны, против изначальной агрессии за отъём, лишения своего и собственного существования, с другой. Поэтому Век агрессии предваряется вопросами о том, как такое становится возможным в целом и каким образом агрессия смогла взраститься по силе и значимости среди многих чувств, подчинив их себе. И в единстве с ними воздействовать на мысли, действия и поведение человека, обеспечивая тем самым сущностное в реальности Века агрессии. Когда апофеозом изменений будет то, что агрессия смогла слиться с сознанием людей и обрести свойства надличностной сущности, снабжая человека образцами агрессивного.
Но что в таком понимании есть надличностная сущность, и какова её роль в складывании Века агрессии? В известной мере пояснением здесь могут послужить идеи Эдмунда Гуссерля (1859 – 1938) и Макса Шелера (1874 – 1928) о «созерцании сущностей». У Гуссерля это метод эйдетической интуиции (созерцание сущностей), а у Шелера – духовный (философский) акт постижения сущности человека. Мы ознакомились с этими идеями, после того как стали разрабатывать понятие «надличностные сущности агрессии». Методологические сомнения нас не оставляли, однако работы названных авторов придали нам уверенности в плодотворности избранного пути. Гуссерль расширяет содержание понятия созерцания, когда полагает, что подобно тому, как можно непосредственно слышать звук, можно созерцать «сущность», сущность «звука», сущность «вещного явления», сущность «видимой вещи», сущность «образного представления» и так далее и, созерцая, высказывать сущностные суждения. Прекрасно, то, что надо, имея ввиду также сущность агрессии, её значимость в расширении возможностей агрессивного поведения. Ибо сущность не только является и исчезает, она остаётся в сознании как воспроизводящая действие по образцу. При этом человек понимается как сознание вообще, в котором надличностная сущность может выступать данностью. Иными словами, усвоение такой сущности происходит не в свете метафизики, когда вопрошается, что «есть», а в мире чувств, воплощаясь в конкретное действие.

