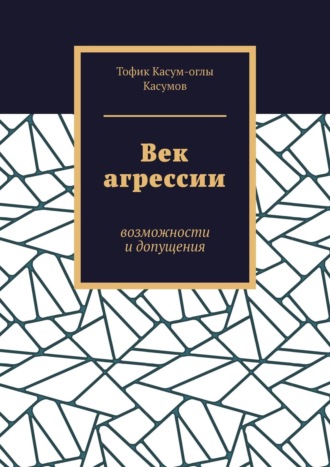
Полная версия
Век агрессии. Возможности и допущения
В контекстах работы совмещаются онтологические и метафизические вопросы бытия и метаморфоз агрессии, и с ними сопрягаются вопросы о масштабах и значимости изменённых состояний агрессии вкупе с другими элементами жизни людей. Ответы здесь не могут не предстать различимыми, чем те, которые изначально кроются в философской заданности вопроса. Ибо в целом данное изучение есть попытка в размышлениях, сместившись к логическому, обрисовать контуры «Века агрессии», где разумная (логическая) соразмерность между представлениями рассматривается как достижительная цель. Когда достоверность сказанному о Веке агрессии должным образом конвертируется в суждениях и сообразуется с идеями привлекаемых авторов. Таковы задачи по каждой составляющей искомого предмета. Как и то, что составляющие сущности не должны выпадать из очерчиваемой целостности Века агрессии, и рассматриваться в общих связях, и в одном контексте.
Работа условно разделена на две части: вводную часть как введение в проблематику Века агрессии и традиционную часть о составляющих – чувствах и переживаниях, ведущих к агрессии. Первую часть книги следует рассматривать как пролегомены (говорить наперед) к изучению Века агрессии и пропедевтику – как предварительный курс к аналогичным знаниям. Во второй части показано возвеличение агрессии в кругу чувств, стремление последних (обида, месть, зависть, страх и др.) реализовываться на основе агрессии.
В общем плане книга есть попытка подступиться к философии Века агрессии в размышлениях, когда истинность складывания такого века раскрывается в суждениях. Поэтому в вводной части рассматриваются сущностные изменения в мире людей, приведшие к складыванию Века агрессии. Взятые в первую очередь с изменёнными состояния самой агрессии, требующей новых подходов, а также единения их с традиционными объяснениями с тем, чтобы удержаться по существу в границах проблематики агрессии, использовать существующий научный потенциал, и не впадать в политический или иной дискурс, а то даже в оккультность.
Наш общий путь намечен от предполагаемого – целокупного образа Века агрессии к смыслам и от них уже пойдут «тропиночки» (вопросы), и вместе с ними колебания, сомнения и отступления, которые должны будут вывести на поля обоснованных представлений и знаний о Веке агрессии. В путь дорогу мы отправляемся, имея лишь общее представление о Веке агрессии, то, что он грядёт, и берём с собой два ключевых слова: «агрессия» и «век», которые нуждаются в первую очередь в разъяснении и наполнении их аналитическим содержанием. Вот с понимания этих ключевых слов и начнём широко и в логических связях излагать наши представления и размышления о Веке агрессии в вводной части. На всём пути мы будем делать два шага вперёд в наших суждениях о Веке агрессии и шаг назад – в сомнение.
Ибо связать себя в представлениях с миром, которого нет, и даже не самим миром, а путями-дорогами, ведущими к нему и множественным индивидом, принимающим агрессию по естеству в решениях – дело не простое. Тут допустимы сомнения, чтобы не проглядеть и другие картины. Поэтому сомнения также будут связаны как с выявлением основных характеристик Века агрессии, представленной в целостности (объект), так и путей, механизмов складывания составляющих в преддверии (предмет). Метафизические экскурсы и художественность здесь неизбежны, ибо Век агрессии как целостность относится к сфере невидимого и представления о нём домысливаются. Отсюда вопрошание, сочетание художественного метода с научным, философского подхода с психологическим, социологическим и правовым, станут необходимыми для обрисования в целостности Века агрессии, его составляющих, а также путей складывания самого объекта.
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ: ПРОЛЕГОМЕНЫ
Агрессия как таковая и Век агрессии
«Пусть длится ночь, пусть опоздает утро.
В объятьях дум сижу я у костра.
Пусть то, что я скажу, не так уж мудро.
Но мудрость друга – выслушать меня!»
Самед Вургун«Агрессия есть современное прочтение зла».
Неизвестный мыслитель1. Образ вечно пребывающей агрессии и обоснование концептуальных представлений о Веке агрессии. Общий путь изысканий – рабочие и аналитические понятия
Каким образом и почему агрессия существует и может видоизменятся, охватывая всё больше мир людей?
Этот вопрос продолжает оставаться вопросом, несмотря на существование не одной теории об агрессии, обилия различных подходов в психологии и в других научных дисциплинах. Поэтому, для определения исходных понятий по такой насущной проблеме, отправным пунктом назовём онтологию (первую философию), где агрессия есть сущее, существование которой определяется бытием людей, их различиями в жизни, устремлениями и перипетиями. В такой задаваемости бытия жизни людьми, агрессия выступает силой, которая обеспечивает добывание, приращение, защиту своего и добытого. Это общие принципы, лежащие в основе вечно пребывающей агрессии как сущего. Механизмами же запуска агрессии ныне будут: «раздирающие интересы сторон», «чувства, возникающие в отношениях (обида, зависть и др.)». Но быть может и стремление к непререкаемой власти (в семье, организации, государстве вплоть до мира), которая утверждается наказанием (санкциями) и военной агрессией по примеру США.
В таком понимании агрессия существует как реальное бытие и имеет свою предметность, что должно быть положено в разные исследовательские проекты в философии. Рискнём даже предположить, что с онтологического вопроса агрессии может начинаться и философия агрессии, а философия сознания как и философия действия могли бы этому послужить как таковому.
Но по любому, в чистом виде или в «союзе» у нас такое не получится показать так, как мог бы это сделать Мартин Хайдеггер (1889—1976), немецкий философ, творец фундаментальной онтологии, учения о наличном сущем (Dasein). В наличии берётся человек, как то сущее, которое наделено отношением к собственному бытию и пониманием этого бытия. Исходя из этого, Хайдеггер создаёт принципиально новую человеческую «понятийность» бытия, ибо главным и неустранимым персонажем бытия делается человек. Время рассматривается как «горизонт бытия», именно со временем связано бывает всё бытие человека.
Итак, взяв за основу одно понятие (Бытие), которое считалось понятным и мало привлекательным для исследования, Хайдеггер смог в работе «Бытие и время» совершить дерзкую философскую перестройку – заново выявить и показать «всеобщность» бытия, в отличие от некой понятности бытия, что в прежней философии каждый раз входило в восприятие сущего. Так создаются новые структуры и экзистенциалы (категории по Хайдеггеру), которые вошли в философский обиход. Это «бытие-в-мире», «бытие-с-другими», «бытие-в-возможности», «бытие-к-смерти», «заброшенность», «страх» и т. д. В достижительных целях философ по-новому и оригинально определяет смыслы «бытия» (как Dasein, «тут-бытие», наличное бытие), интерпретирует время как горизонт его понятности. Сущность бытия для людей он рассматривает как непрерывный поток изменчивых эмоций. На такое хотелось бы обратить особое внимание, ибо в потоке эмоций и чувств мы найдём агрессию в значимой роли.
Хайдеггеру удалось построить дом бытия, выделить принципиальное начало – «бытие бытующего», человека, существующего способом экзистенции – возможности бытия личности как бытия-в-мире. Понятийность экзистенциальной онтологии должным образом способствовало созданию аналитических полей для экзистенциализма – философии существования, в которых и ныне продолжают философы активно разрабатывать насущные проблемы человека.
Но если принять данное учение Хайдеггера как «бытие бытующего», то можно видеть продолжение и чисто бытийной стороны уже в названии одной из философских работ. Так. современный французский философ Жан-Люк Нанси продолжает бытийную проблематику как бытие единичное и множественное и под стать этому тематизирует такие проблемы, как «сообщество» и «событие». Но он не соглашается с Хайдеггером в том, что человек есть главный персонаж бытия, и ставит вообще под сомнение единичное самого бытия. Бытие рассматривается как сущее всего и вся, и у этих сущих есть также права на философию. Данный подход автора, казалось бы, должен был приблизить к тому, чтобы начать разрабатывать философию агрессии. Мы рассматриваем человека во множестве его действий и говорим о множественном индивиде. Агрессия сама по себе как сущее также есть единичное множественное и имеет право на философию. Однако смущает безликий перечень всех объектов, самих по себе. Потом в таком контексте «всё» будет как «ничего». Ведь если Хайдеггер понимает сущее как сущее и говорит о человеческой понятности бытия чётко и недвусмысленно, то другое мы видим у Жак-Люк Нанси. Он предлагает, как сам выражается, несколько разрозненных тем, что «является следствием фундаментальной трудности». Жак-Люк Нанси. Бытие единичное множественное. Минск, 2004. С. 11. При этом не скрывает амбиции текста «переделать всю „первую философию“, обеспечивая её, в качестве основания, „единичным множественным“ бытия». (там же). Перво-наперво – это утверждение равенства всех вещей в мире (людей, ящериц, зерна, алмазов и т. д.) как отношение между языком и вещами. Все взаимодействие достигается в языке и посредством языка. Всё в равной мере имеет доступ к миру. Нет никакого привилегированного субъекта, возражает он Хайдеггеру. Это уже звучит и провозглашается как верх «демократии» объективированного бытия. У Нанси единичное становится множественным так, что стирается индивидуальность и тогда, надо думать, растёт и усиливается идентичность. Это и есть у Нанси бытие-вместе, сообщество как основа бытия. В то же время не смотря на такое единение, «в горизонте бытия» он указывает на хаос, с чем сталкивается человеческое бытие, и утверждает, что в бытии есть «Война несмотря ни на что». Теорию сообщества, он развивает как бытие-вместе, не забывая и о «событии». Но о событии он говорит не как о произошедшем, фактологическом, которое может разрывать равновесие, а как о со-бытии, что «связано с первоочередным онтологическим условием со-бытия или бытия-вместе». Мы не станем далее рассматривать философию Нанси, это не входит в наши задачи. Скажем одно, если Хайдеггер разработал сложную архитектонику бытия, где главным является человек, то у Нанси бытие есть «всё вместе», которое, однако, выдаётся как хаос. Возможно, в этой части он мог быть ближе к представлениям о Веке агрессии, но не стал.
Однако уже по Хайдеггеру вначале надо думать о том, что для философии агрессии следует построить свой дом бытия: создать язык бытия агрессии и обустроить в общих контекстах бытие составляющих агрессию. Основными направлениями развития здесь могли быть: «онтология языка агрессии»; «онтология событийности агрессии» и «онтология смысла агрессии». И прежде всего прояснение вопросов онтологии «вечно пребывающей агрессии», как того, что было дано далёкому пращуру как инстинкт-агрессия в «сродни с рык-голосом, языком и зубами» а впоследствии стало изменяющейся данностью в мире людей. Эти исследования, несомненно, потребуют кардинальных усилий философской мысли. Однако на сегодня мы не назовём философа с размахом и фундаментальностью Хайдеггера, который подошёл бы для этого. Кроме того, нет тематических материалов – концептуально, связанных понятий в текстах и языке. Нет и рабочих понятий, как скажем в психологии. Не вызывают сомнений лишь определяющие роли двух понятий – «нападать» и «разрушать», за которыми видятся субъективные миры, наполненные смыслами, и объективные составляющие – с текущими стечениями и возможностями (вот их то и следует содержательно наполнять в первую очередь).
В достижении поставленных целей философия агрессии должна предстать методологиями и концептами, а также вариантами философских картин агрессии в настоящем и будущем. Эти задачи предстоит решать поэтапно, с обсуждениями и дискурсами. Как и то, что наши цели, предполагающие дискурс, не могут не быть связанными с методологическими ожиданиями от разработок философии агрессии и, одновременно, испытывать общие с ним трудности, названные выше. Поэтому в целях достигаемой понятности реального складывания Века агрессии и предполагаемой целостности его развитии из возможного, мы будем посильно затрагивать общие онтологические вопросы философии агрессии, что же касается нехватки тематических ресурсов, то станем привлекать разные источники, держа за определяющее направление философский курс.
Общим для всех истоков будет персонаж субъекта как начало всех начал. Ибо как в психологии, и ещё больше в социальной психологии, так и в философии действователями агрессии являются субъекты разного уровня (индивид, общество и государство) и значимости, наделённые различимыми возможностями и масштабами по силе. В их субъективных представлениях, предопределяемых чувствами и разумом, желаниями и интересом, таятся смыслы агрессии, извлечение которых могло бы и что-то предотвратить из злого умысла, вот в чём вопрос.
Теперь о том, что постановка новой проблемы агрессии в контекстах жизни и войны, выявление сущностных моментов, связанных со становлением Века агрессии, потребует вначале кратко обрисовать возросшую роль субъективности, её объективации, и всё то, что с этим связано. А именно: является ли субъективность мерилом агрессии, исходя из-того, что в сфере субъективности в основном конструируются смыслы агрессии совместно с целями. Ведь указующие смыслы не бывают без целей, а сами цели должны быть осмысленными. Время должно показать, станет ли смена президента США также сменой субъективности (целей и смыслов) в международной политике, и приведёт в первую очередь к нарастанию новых импульсов агрессивной риторики и напряжённости в мире. И как будут цели совладать со смыслами, скрытыми за субъективным?
Субъективность, это «своё» представление субъекта о том, о том, что видит и как понимает происходящее, а объективное – то скрытное, что есть вне субъекта, оно должно быть выяснено и утверждено на практике для действующего субъекта. Традиционно они рассматриваются в связке субъект-объектных отношений, чтобы «очистить» в меру субъективность от «самой себя», соотнося с объективным. Так, субъективность «сближали» с объективным, но она никогда с ней не сливалась. И чем ближе удавалось подвести субъективность к объективному, тем выше признавалась её достоверность. Такой процедурой или «чисткой» занимаются социологи для придания надёжности собранной в ходе опроса субъективной информации. Однако полностью от субъективного избавиться никак нельзя, ведь оно выступает действенной частью нашего существования, и несёт собственные смыслы, также как невозможно полностью удостовериться и показать объективное. При этом следует признать, что за субъективным будут интерес и разные силы привлекаемых источников, а за объективным – лишь посильное утверждение того, что есть. К тому ж объективность сама по себе инертна, даже обнаруженная, она лениво даёт о себе знать, что недостаточно бывает для действий в согласии с нею. Поэтому в мире людей зачастую «проходит» и утверждается субъективное с названными атрибутами, то есть, где сущностным представляется привлечение разных сил.
Такие практики не могли не могли пройти мимо философов. Так, участники феноменологического движения (Э. Левинас и др.), показали, что субъективная сфера есть данность, с которой надо считаться не меньше, чем с объективностью. При том, что в истоках феноменологии сущностным признаётся феноменологическое эго и жизнь сознания. Это мир трансцендентальной субъективности, рассматриваемый феноменологически, то есть, мир, который непосредственно присутствует в моём сознании, когда я воздерживаюсь от всех убеждений относительно объективной реальности. Если мы правильно поняли Эдмунда Гуссерля (1859—1938), а именно он является основателем феноменологии, то на место объективности, которую надо было ещё определять, ставятся повседневные установки, здравый смысл и то, что наработано самим субъектом по жизни. Однако важным моментом всё же было признание статуса субъективности, вне зависимой привязки к объективности Да, и в практиках жизни стали не в малой мере исходить из субъективного, отдавая дань не только силе, но и здравым началам, присущим субъективному.
Новое принятие субъективности стала возможной в результате созревания и укрепления индивидуальных начал, таких как чувство, чувствования и переживания, значимость собственных представлений и личная воля. Их определённость в выражениях и действиях, активность, и даже пассивность, как ситуативные реакции на происходящее, расширяют поля субъектности и могут укреплять по обстоятельствам потенциал субъективного одного рода. Такая индивидуальность, взятая в своём множестве как многое и есть субъективность, с которой надо считаться как с объективностью Ибо индивид в своих действиях и сознании, представая множественным индивидом, по существу выступает вершителем различимой субъективности, в том числе и агрессивной, сообразуясь, как бы, с новыми значениям агрессии и стечениями обстоятельств. В этой части по-другому видятся роли субъективного и объективного в агрессии. Если субъективное измышляет агрессию нападения и продолжает её питать силой разума, то объективному будет уготована ответная роль агрессии в защите во имя справедливости и права.
На путях множественности субъективность обретает реальную силу. Так субъективность Я во множестве однородных значений обретёт силу «Мы», в то время как субъективность Другого сообразуется субъективностью Они. Приобретя силу во множестве, субъективность динамично объективируется. И в этом качестве выступает залогом событийности.
Однако единение субъекта и субъективности распадается, потому как упраздняется значение самого субъекта. Так, М. Фуко считает субъекта идеологическим конструктом и с завершением определённой культурной эпохи предрекает неизбежную «смерть субъекта». Об умалении роли субъекта раннее писал Хайдеггер, а позже постмодернисты Ж. Деррида и Ж. Делез.
В Век агрессии понятие субъект как таковой в традиционном понимании, думается, отойдёт в «теневую сторону» от обозначения функций реальных действий, однако, сохранится номинально, как общее имя, например, для действователя в агрессии. Реальным вершителем субъективности станет множественный индивид. Основываясь на этих положениях, представленных поначалу схематично, мы станем агрессию и агрессивность рассматривать в мире людей как выражение субъективности, которая осуществляется субъектами разного рода и уровня действований. В своих значениях они могут объективироваться как агрессивные начала.
Здесь субъект отдельной личности как множественный индивид в состоянии агрессии, характеризуется нанесением урона жертве, а консолидированная в агрессии группа – осуществлением антисоциальных действий. В отдельные периоды действований в агрессии других субъектов, агрессивным будет государство, которое, переступив все нормы права, начинает военные действия, войну, против другого государства, с жертвами и разрушениями.
Особо следует сказать об агрессии нации, когда агрессивность зашкаливает и выходит за границы государственной политики. Агрессия тогда утверждается как установка поведения всей нации. И это имеет место в силу наглядной конкретизации так называемой любви к своей нации, склонной видеть мир в отсвете особых представлений о своей нации, и убежденности в том, что мир должен будет понять и принять это как таковое.
Чрезмерное и некритическое возвеличение своей нации, причём в крайне тяжёлой форме, мы наблюдаем ныне у представителей армянской национальности. Известно, что на протяжении веков армянские умы создавали свой мир, окутанный мифами и историческими вымыслами. Это была продукция как для собственного пользования, которая стала внутренним национальным опытом самовозвеличения, так и на продажу в мире, «чтобы утвердиться в высокой значимости». Всё это должным образом служило воспроизведению особливости армян и пониманию тог, что мир обязан армянам… Но по мере усиления прозрачности мира, армянскую продукцию становилось сложно сбывать. В ответ на непризнание особой миссии армян, и предоставления им привилегированного положения в мире, росла и утверждалась ненависть. Так, армянский мир насыщался собственной злобой и агрессией, органически бытийствующий в разладе с другими. Это яркий пример утверждения агрессии на больших ареалах, где субъектами во единстве являются нация и государство.
Но в силу каких изменений в мире, в людских отношениях и в предпочтениях самого человека, можно говорить о Веке агрессии? И будут ли такие изменения связаны лишь с ростом агрессии в мире или Век агрессии – это особый накопившийся во времени потенциал действенных сил, от складывания и утверждения элементов, связанных с изменением и приращением новых качеств переменных, имеющих отношение к агрессии. При том, что обогащение её сущностных связей будет протекать на основе субъективности и действий множественных индивидов. Вот об этом и другом, что поможет прояснить вопрос о складывании Века агрессии, и будет наш разговор.
Исходя из этих целей, мы станем различать два вида бытия – бытие как складывание (преддверие) и бытие вероятного как Век агрессии. Здесь в преддверии как бытии прошлого и настоящего есть вечно пребывающая агрессия, а в бытии вероятного – агрессия как упреждающая сила в новых значениях века. И если преддверие как предтеча искомого есть механизм задействования, то в изменённых связях агрессии в реальном мире становятся всеобщими обезличенные смыслы агрессивного, усугубляются интерпретации возможной тотальной войны «всех и вся» (ядерной войны), что предполагает уже иные чувствования и переживания. Человек будет страшится за мир, для всех нас, который осознаёт и как свой мир, потому он станет отвечать на такое не только переживаниями и волнениями, но и агрессией. Так, исподволь будет завершаться период преддверия и миру предстанет Век агрессии во всей своей неприглядности.
А пока можно заметить, что жизнь людей в действительности подходит к какому-то своему поворотному пункту, и такое связано с непомерной активизацией субъективности и субъектов разного уровня. Ведь производство того, что есть в мире людей и создание «объективности» во многом сопрягаются с субъективностью, а сам субъект выражает направленность многих изменений в чувствах, является носителем и выразителем чувствований и переживаний в силу возможного или предстоящего.
Однако в своих действиях такой субъект может проявляться вопреки традиционным порядкам и личной обособленности, когда становится нестерпимым и нахрапистым, исходя из вселенского зла. Одновременность во множестве действий по злу вещь опасная, что, несомненно, должно определять поворотное, как нарастание тёмных смыслов и возможностей в мире людей.
Есть свои риски, когда начинаешь вот так с постановки мрачной картины, очень похожей на инволюции, и пытаешься потом «поместить» её в будущность концепции жизни как свёртывание эволюции, под воздействием сил зла. Но в таком случае пришлось бы отказаться от человека, который своей историей был помещён в эволюцию и мог развиваться. Мы не станем подвергать сомнению общий эволюционный путь человека при нынешнем раскладе вещей в мире и попытаемся уяснить «поворотное» в связи с субъективным, которое «объективнее самой объективности» (Э. Левинас, 1906—1995), в мире людей, но и не столь однозначно действующее по жизни. Нам важно прояснить: куда движется мир, помятуя о значении субъективности не только в происхождении представлений, но и в производстве агрессивного.
Чтобы определиться с этим, зададимся вопросом: может ли намеченный поворот говорить о преддверии Века агрессии? Что очертания агрессивного века, опережая будущность целостного выражения, выступают уже в наглядности своих первых тревожных признаков в мире? И что они могут осознаваться и домысливаться фрагментарно в разных областях знаний?
Поворотный пункт, это время, когда в складывании и развороте определяются потенциальные силы и возможности переменных Века агрессии. Во многом они задаются обострениями в политических реалиях и стечениями обстоятельств в мире людей. Они то в основном и выдвигают на значимые роли агрессию, изменяют сами связи агрессии с людьми, в которых у неё становится больше возможностей определять поведение. Но и сама агрессия изменяется в качественной определённости. На поверхности жизни всё это даёт о себе знать коммуникациями в общении, росте напористости и раздражительности, чреватые чрезвычайными событиями и случайностями. Но два фактора – больше, чем названные, являются ответственными за разворот в сторону Века агрессии. Первый фактор – это технически, как технэ, связанный с гонкой вооружения – созданием и наращиванием ядерного потенциала. Второй фактор – изменения умонастроения людей в сообществах, которые происходит в силу растущей напряжённости и чаще всего само по себе, неосознаваемо и незаметно.

