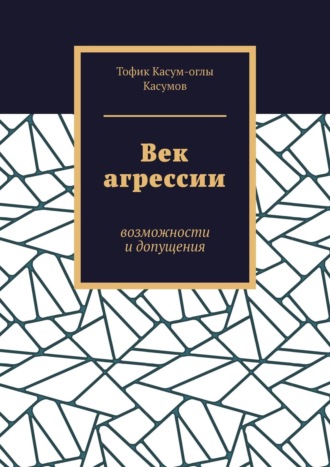
Полная версия
Век агрессии. Возможности и допущения
Далее философские подходы к изучению места и роли Я продолжают трактоваться по большей части с позиций культурно-исторического феномена и деятельности, сближаясь с психологией и политологией.
Ныне, в преддверии Века агрессии, Я человека как выразитель личности, не только берёт вверх над индивидом, который в массе своей больше связан с обществом, но и пытается освободиться от жёсткой привязки и быть самостоятельным в отношениях к другим и в целом к миру людей. Став, таким образом, «выше» над мыслящим – Я и даже над многими чувствами, Я выступает дерзко и надменно с указующих позиций, выдавая своё различимое как сущностное, а за всем этим с необходимостью «держит» агрессию. Можно было бы предположить, что заносчивому и агрессивному Я, будет противиться Я душа, которая активизируется на территории чувств, желая проявлять себя в реальной жизни человека, не дожидаясь жизни иной. В этой целостности, душа будет утверждать себя в чувствах и переживаниях, говоря и действуя как Я. Но человек исходит из своей сути возвеличенного Я и не примет преждевременно потакание души. Как и то, что Я не будет состоять в сообществе «Мы», с её общими организующими началами, оно станет противится «нежелательному» самолично, и это будет укрепляющим началом общества множественных индивидов.
С метаморфозами Я и агрессией будут связаны общие пути складывания Века агрессии и они же станут определяющими для многих составляющих в процессах складирования. Так, слившись в национализме в целостность, возвеличенные Я и агрессия с новой силой возобновят борьбу за передел мира, за земли и ресурсы, с вовлечением Больших государств, что надолго приведёт к нестабильности и напряжённости в мире. Станут обычными раздоры и военные столкновения, а локальные войны могут замкнутся в единую цепь глобальной войны, непредсказуемой в своём исходе. Время в таких реалиях и очертаниях надо будет называть уже временем Века агрессии. А время такого века, эпохи, каждое под своим именем может быть доведена до ранга философии. И возможно, что нынешнюю эпоху философы когда-нибудь назовут эпохой «Поведенческих перемен и реконструкций жизни», а состоявшийся в полноте Век агрессии станет её органической частью. Но мы можем предложить лишь сюжеты с тремя ключевыми элементами. И рассмотреть их кратко в начинании, а потом дадим развёрнутые варианты по ним в смежных контекстах.
В. Заданность ключевых элементов в преддверии
Заданность представленный как процесс формирования и изменений в данной плоскости, есть возможности и допущения в преддверии тех понятийных единиц, из развития которых будут состоять основные составляющие Века агрессии. Речь идёт в основном о движении и преобразовании понятий чувств в соотношении с агрессией и самой агрессии, в её метаморфозах.
Здесь преддверие представляется как «площадка для замеса понятий», на которой условно размещаются «понятийные единицы» как возможные составляющие складывания Века агрессии. Так мы сможем получить в чистом виде возможность для решения искомого на основе понятий. Это будет разбор понятий по их связям и движениям за время преддверия. В результате которых станет возможным различать ключевые элементы: чувства как столпы возвышения агрессии; надличностные агрессивные сущности и агрессиум (внешнее и внутренне); метаморфозы и изменения агрессии. Их наличное бытие в политической жизни, в экономике и повседневности станет свидетельством реальной фазы Века агрессии.
1. Чувства как столпы возвышения агрессии.
За обновлённой в целом агрессией при стечении ряда обстоятельств, неукоснительно последует сонма чувств. Это прежде обида, зависть, тревога, стыд, любовь и страх. Влекомые стечениями жизни и стремясь к крайностям в своих выражениях, они станут сближаться с действенной агрессией, что окончательно приведёт к утверждению агрессии как всеохватной и всеобъемлющей силы. Но и сами чувства обретут силу и решительность для своих выражений. Принимая во внимание то, что такие чувства как гнев, злость, раздражительность всегда были близки к агрессии, но теперь таковыми станут обида, зависть, стыд, тревога, страх и даже любовь. Словом, будет происходить могучее слияние чувств на основе чувства агрессии.
Тогда то мир разума и мыслимых решений уступит напористости чувств и чувствований агрессии, её переживаний. А сами мысли, едва поспевая за чувствами, станут их обосновано принимать, не меняя самой сути и направленности чувств к агрессии. Борьба мыслей с чувствами за лидерство завершится возрастанием роли чувств в решениях и действиях. Ведь под стать агрессии как чувства, будут рядиться многие чувства, что и станет выражаться в усилении нетерпимости чувств, при изменении устоявшегося в их реагировании. Такие чувства будут столпами возвышения агрессии в значениях века. Ибо изменится «поведение» самих чувств, органически связанных с социальностью и субъективным. А эти перемены сущностно скажутся на размывании социального и приведут к усилению субъективного, что найдёт своё отражение в агрессии самой политики, культурной жизни и в актах поведения. Так, сонма чувств, вставших на путь агрессии, в художественном плане могут быть персонализированы и представлены как персонажи жизненных перипетий. Это мы по большей части адресуем литераторам.
В философии же поприщем для чувств, привитых к агрессии в полной мере мог бы стать национализм. Но век национализма, как мы знаем, не состоялся, потому как не все народы ещё консолидировались как нации. А главное, не все нации вступили на путь агрессивного национализма как, скажем, армянская нация.
Чувства в своих связях с агрессией, их политическое единение в национализме, пойдут уже на складывание Века агрессии. Основываясь на таком понимании чувств и отмечая ускорение их личностной выраженности в агрессии, отнесём их к составляющим Века агрессии, представив будущность их изменений в лапидарной форме:
– обида в своём поведении не станет «ждать» и вынашивать месть, следуя традициям среды и сообразуясь с возможностями, а будет реагировать фактически, то есть, перейдёт к моментально-действенной агрессии. В политике как обиде несогласия тому уже служат экономические санкции, агрессивная риторика;
– зависть не станет скрываться «как Я – желание» в благодушии и заявит в агрессивной форме о своей исконной природе. Такое ныне осуществляется криминальным способом, нацеленным на устранение успешного конкурента и это будет расширяться, охватывая новые сферы;
– тревога не сможет долго томить и будет посредством боязливости передавать свои тревожащие чувства страху, тогда как страх, вперемешку с ними станет всё больше превозмогаться агрессией.
– стыд, невзирая на былое, не станет сдерживать агрессию и препятствовать ей в других, смежных чувствах. Оказавшись в целом не удел, игнорируясь, стыд, видимо, будет практически утрачен в Век агрессии.
– любовь, небывало воспетая поэтами как высшее чувство, но бытующее скорее как ожидаемое в умах и ритуальное в признании, уйдёт из представлений жизни, оставив следы чего-то несбыточного. Отношения между полами в прелюдиях к браку будут определять сексуальные притяжения, доверительность и в окончательной форме меркантильный расчёт, где совьёт своё гнёздышко и насилие, готовое явиться при сгущении чувств. В таких отношениях излишни желания быть миром для другого, приемлемо лишь «удобная жизнь» сама по себе, где целью будет обогащение спектра удобств, его значений. При том, что опасности грозящие уже супружеской жизни станут агрессивно отвергаться, невзирая на родственную близость. И это уже будет иной мир совместимости, расчерчиваемый каждой стороной, исходя из чувства предполагаемого удобства в приложениях и агрессии при вызовах. Здесь следует говорить, что изначальным будет само чувство ожидаемого удобства, а вслед за ним пойдёт расчёт и калькуляция. Однако в этих прелюдиях к совместной жизни незримо присутствует и готовность к проявлению агрессии.
Эти изменения в чувствах отнесём к усилению агрессии в значениях века, тогда как подчинив себе чувства, агрессия будет оказывать упреждающее воздействие на мысли и в целом определять поведение. С другой стороны сами практики агрессии, сохранённые как сущности в сознаниях и ставшие надличностными сущностями, будут тому способствовать. Так могут завершиться процессы складывания Века агрессии в ряде компонентов и оформлении базового конгломерата чувств и мыслей с агрессией. В своём продолжении такой конгломерат будет становиться и воспроизводиться как устойчивый агрессивный тип жизни и деятельности. Производить такую агрессию объёмно и масштабно в мире людей будут войны, терроризм и криминал.
Возможны ли такие пертурбации и отнесение их к складыванию составляющих, когда становится в целостности Век агрессии? Или всё это лишь досужие мысли из области приватных суждений, соответствующих вымышленному бытию. Но как быть тогда с тем, что мы живём уже в преддверии Века агрессии, ведь агрессия есть и бывает в мире разного формата и «калибра». К тому же, сказанное о чувствах не так уж различимо и отдалено от дней сегодняшних. Однако из-за поглощённости и «втянутости жизнью» не желаем, да и не можем замечать какие-то сдвиги в сторону агрессивного времени, а главное, не примечаем её реальные признаки в значениях Века агрессии, что имеет место на деле складывание его составляющих.
Действительно, происходят ли «тектонические» сдвиги в сторону агрессивного зримо или всё идёт и протекает по накатанному в мирно-говорящих стеснённых обстоятельствах на манер политиков и дипломатов? Когда не видны бывают зловещие признаки на фоне «привычного» сгущения сил зла и умаления в них личностных начал? И тогда, возможно, что мы упускаем ту агрессию, что с порога вступает в права хозяйки века, чрезмерно выражая настрой на негатив и людскую ненависть, обильную на жестокость. Ведь обычным делом становятся смертельные риски конфликтов, частые войны и томительные ожидания, где растут переживания вперемежку с тревогой и страхом.
В силу высказанных положений актуализируем для уяснения некоторые особенности в отношениях агрессии с социальным и покажем к чему они могут вести в своей совокупности и как близки мы к тому, чтобы войти в Век агрессии. В целом в нашей работе такие поиски станут аргументацией того, что имеет место «созревание на пороге» конкретных элементов, которые можно будет рассматривать как компоненты и составляющие Века агрессии.
Тот факт, что агрессия живёт в мире людей, и что она вся охвачена «социальным», будет важным для неё в том плане, что существует зависимость социального от «социальности». Когда же между ними создаются несоответствия и возникают напряжённости, то агрессия получает возможность широко произрастать на такой почве. Как такое может происходить?
Станем различать «социальное», являющееся как общим свойством взаимодействующих людей, так и прививаемой формой жизни и «социальность» в ней. Последнее будет означать совокупность свойств ментального характера, скрепляющих социальное «умом и чувствами» и выступающих условием его устойчивости и цельности. Как таковая социальность есть предрасположенность индивида к обществу, это чувство и понимание того как быть в обществе человек развивает всю жизнь. Но против социальности может выступать индивидуализированное как забота и выделение себя в новом укладе жизни. Да и сама социальность, которая закладывается в процессе социализации индивида и сообразно вяжется по его жизни теряет былые очертания и наглядность привития. При всём этом в противостояние с социальностью, как скрепляющему началу в социальном, с новой силой включается агрессия, она пытается ослабить её, чтобы стать определяющей силой в социальном мире людей. И похоже, что агрессия близка к своей победе по существенным признакам.
Мы наблюдаем закат социальности уже по тому как теплота человеческих связей повсеместно и устойчиво вытесняется системой холодных и бездушных коммуникаций со своим языком. На место социальности встают и укрепляются структуры рациональной множественности. Коллективность сменяется спорадической множественностью, в которой поиски единоличной нищи становятся определяющими. Наряду с этим изменяется общий ландшафт социальности, когда сводятся на нет соседские связи, отпадает и уходит в прошлое сила единения в родственных отношениях. Семья уже не является бесспорной опорой для человека. Люди всё больше разуверяются в справедливости где бы то ни было, а эмпатия по существу перестаёт иметь хождение. Она девальвируется и заметно начинает изымается из оборота человеческих отношений, когда биение миролюбивости осуществляется через силу и даже вопреки. Такое говорит о симптомах заболевания социальности, которые вместе с другими неблагоприятными факторами для неё приводят к её ослаблению и практическому обращению в равнодушие и утверждению безучастия. Человек черствеет даже к памяти о себе, он становится равнодушным к каких бы то ни было делам при жизни, которые могли бы ему быть засчитаны после смерти.
Английский социолог З. Бауман, размышляя в своей книге «Индивидуализированное общество» (М,, 2002.) о возможности жизни после бессмертия и самой смерти в различных её ипостасях, говорит о мостах перехода и сохранения памяти о себе в этой жизни. Рассматривая различные мосты, которые навела культура, Бауман подводит нас к тому, что «превосходство, этот прорыв в вечность, ведущий к постоянству, не только перестаёт быть желанным, но и не кажется необходимым для жизни условием» (там же, стр. 316.). Иными словами, добиваться превосходства в своей деятельности, в людских связях, не есть сохранение жизни в иной форме. Бауман предполагает приход новой территориальной целостности, на которой людям предстоит жить, подразумевая, видимо, изжитие привычной социальности. В то же время российский философ Н. М. Смирнова, ссылаясь на Баумана, прямо заявляет о «смерти социального» как вызове социальной эпистемологии, не вводя различия между «социальным» и «социальностью», и не объясняя сути самого «вызова». (Н. М. Социальная феноменология в изучении современного общества. М., 2009. С. 347.).
Однако умирает не социальное как способ и форма жизни, а возрастает реальная угроза отмирания социальности в нём, ядра его цельности, ибо основные скрепы человечности становятся нежизнеспособными. И когда Ж. Бодрийяр говорит о смерти «социального, его обращение в симулякр», то есть копии того, чего уже нет, то он имеет ввиду отмирание подлинного в социальном, то есть социальности. Такое отмирание «социальности» в социальном, по нашему предположению может также означать утверждение власти нахрапистости и сдвигов эмоционального в социальном. Но социальность всё же сохранится, отдав значительную часть своей территории агрессии, она будет с нею сосуществовать. Так, агрессия утвердится на поверхности жизни, готовая к формализации и институционализации. Но всё это видится далеко в тумане, поэтому сложно предполагать здесь что-то вразумительное. Ибо это будет уже Век агрессии, со своими особенностями.
Если всё это, как мы описали имеет место, и мы также поняли названных авторов, или близко к тому, то оттеснив «социальность», по новому полнится агрессия. Собравшись в преддверии и став в полный рост, агрессия войдёт в свой век хозяйкой.
Какие же изменения в мире людей могут привести к Веку агрессии, и как это связано с усилением роли чувств? При определяющей роли агрессии среди чувств как социальной заданности её возвышения. Когда такие чувства как обида, месть и зависть, всё чаще прибегают к агрессии, чтобы реализоваться сполна, а тревога и страх могут преодолеваться лишь путём агрессии. Агрессия становится тем местом, где скапливаются многие чувства, чтобы начать действовать. Это ли не будет обобщающим фактором складывания Века агрессии в преддверии и предпосылкой его будущности? Или какие-то силы, идущие от разумного, могут изменить такой ход событийности. Вот обо всём этом, и не только, наши раздумья.
Теперь можно открыться и заявить на опережение, что Век агрессии исподволь «зреет на пороге», в своём преддверии. Мы исходим из реальности существования отдельных составляющих Века агрессии, от взрывоопасного пульсирования его элементов, неустойчивости и изменчивости субъективных связей. Усваивая значение двух ключевых слов, – «нападение» и «разрушение», – выражающих в своей связке объектные отношения, различаем агрессию, которая имеет индивидуальное значение, что определяется её ролью в сущностных характеристиках Века агрессии. Последнее, не в пример объективным связям века, привносится во множестве субъективными ситуациями. Именно по текущим изменениям политических, социальных и психологических явлений в преддверии, закладываются сущности, которые приводят к новым реалиям в жизни и порядке. И если о творящей мысли (техническом прогрессе, тэхнэ и пр.) мы можем говорить как о предтече Века агрессии, то чувства в преддверии являются действующей силой в складывании составляющих Века агрессии в целостность. Ибо агрессия на этапе замысла и действования, а также того, к чему это приводит не обходится без чувств и переживаний.
В преддверии Века агрессии важное место занимают события и событийность. События в общем понимании есть жизненные сюжеты, где главным является "неповседневность", в которой персонажи и случившееся имеют отношение к значимому во времени. Событийность же есть то характерное в происходящем, а в преддверии, это агрессия, что делает его сущностным событием. Для самого Века агрессии упреждающим будет чередование тревожных событий, в которых даже хаотичность разброса событийности может иметь свои смысловые зигзаги.
В контексте сказанного будут наши размышления и суждения о том, каким образом вековую значимость обретает сама агрессия и чем оборачиваются её метаморфозы и изменения для сущностных изменений людских отношений. И как понять роль и место агрессии в складывании и смысловой событийности Века агрессии? Сопричастны ли будут такие события с событиями «годичности», чтобы говорить о смене размеренности смыслов жизнеутверждения века? О том, что будничное сегодня «спешно» сменяется на то, что можно было бы назвать упреждающей агрессией в повседневности века. Здесь сразу оговоримся о том, что влекомые агрессией чувства и мысли, слова и действия, всё больше заволакивают человечество силой зла, погружая в преддверие Века агрессии. Когда в силу многих обстоятельств – политических, военных, конфликтных, участниками которых являются не только ядерные государства, агрессия становится фактором угроз планетарного масштаба, что само по себе имеет существенную власть над воображением и вызывает особого рода переживания, основанные на тревоге и страхе. Складывается ли всё так и будет ли мир продолжать страшить неопределённостями, стремясь к войне, вопреки себе как миру?
Ясно, что в наших размышлениях и суждениях по таким вопросам намечаемой проблематики Века агрессии, должны быть широко задействованы многие факторы. Однако при всём притом нашей задачей является выявление особенного, специфического, связанного с ролью агрессии и сонма чувств, непосредственно имеющих к этому отношение. Здесь также важно будет строго придерживаться намечаемого предметного значения возвеличения агрессии и определиться в размышлениях с искомыми суждениями. Естественно, что во всех этих исканиях само понятие «Век агрессии» не могло быть представлено как готовое, уже «работающее» понятие, отражающее действительность, и должно было видеться как образ грядущего, что целостно «вырисовывается» в единстве составляющих, складывающихся во времени в определённой последовательности.
Придерживаясь таких положений, надо было подобрать и обрисовать понятийное ядро (язык размышлений) из реально существующих переменных, связанных по естеству «как есть» и показать, какие их изменения и стечения обстоятельств будут способствовать складыванию на их основе Века агрессии. И, быть может, что в размышлениях целостность Века агрессии покажется более полной и логично оправданной в понятийных связях ингредиентов, чем та, что была бы в действительности. Ведь предметом наших размышлений и суждений будут зреющие черты Века агрессии, пути и особенности его складывания как возможного в действительности.
2. Надличностные агрессивные сущности и агрессиум (внешнее и внутреннее).
Чтобы уяснить себе сказанное и высказать в суждениях, «что есть что», мы рассматриваем век и агрессию в значениях конструкта, которые имеют реальное воплощение в мире людей и своё понятийное выражение. Содержание последних мы станем трактовать в контекстах складывающегося Века агрессии, но в отдельные моменты будем на опережение высказываться и о возможностях сложившегося Века агрессии.
Такой век складывается и постепенно выносится наружу внешнего мира как целостность. Но одновременно он также «обретается» во внутреннем мире человека как должное (подробно об этом будет сказано в разделе вводной части понятием «агрессиум»). Это общий посыл значений всеохватности и всеобемливости агрессии, выражающий переходы от складывающегося Века агрессии (настоящее) к тому, что будет (сложившемуся в целостности).
Таким образом пара понятий, которые мы вводим для сущностных характеристик Века агрессии, будет значима во вне, что даётся понятием «надличностные агрессивные сущности» и во внутреннем мире – понятием «агрессиум». Как образования личностного порядка они могут быть связаны между собой, обмениваясь опытом и энергией.
Надличностные сущности агрессии – это одиозные случаи агрессии, ставшие событием в мире людей и обретшие таким образом опытное, образцовое для повтора значение. Будучи изначально агрессивными явлениями как особый случай, они были абсорбированы (поглощены) сознанием, и как сущности стали служить образцами агрессивных действий. Вместе с ними привносятся чувства и решимость, которые обеспечивали активизацию агрессии. В особых случаях они уподобляются персональным сущностям и в этом проявляется их действенные начала как составляющих в складывании Века агрессии. Их роль всё явственнее станет выступать по мере расширения доступа к образцам агрессивных практик, которые станут откладываться в наших сознаниях.
Агрессиум же есть социобиологическая структура. Он стал возможен по мере укрепления социальных начал в агрессии. Развивается агрессиум во внутреннем мире человека, и будучи составляющей этого мира, несёт ответственность как за пробуждение агрессии, так и за меру её проявлений. исходя из внутреннего согласия Но надличностная сущность агрессии как таковая может нарушить это согласие, если приобщит имярека к одиозным образцам из мира агрессивного.
Таким образом, агрессия извне и изнутри получает возможность для своих действенных проявлений в жизни.
3. Метаморфозы и изменения агрессии.
Метаморфозы – это превращения, переход свойств какого – либо начала, элемента из одного состояния в другое, что может придать ему другие функции и качества. В нашем случае мы станем говорить о метаморфозах вечно пребывающей агрессии, главным образом на пути её изменений и возвеличений в значении века. Здесь метаморфозы агрессии, а речь идёт об этапе преддверия, будут тесно сопрягаться с двумя ключевыми элемента предлагаемого сюжета. Обозначим их действия.
Чувства, избыточные в своём выражении, будут стремиться к агрессии, чтобы используя её возможности как силы выражаться и действовать, начать изливаться вместе с нею. Совокупность таких чувств, как было сказано, станет основой для придания агрессии значений столпов века. Но, одновременно, и агрессия не станет бездействовать и проявит активность, стремясь расширить своё владычество на основе чувств. Так, будет происходить складывание чувств, желающих излиться, с возможностями и активностью агрессии, что послужит в своём единении Веку агрессии.
В случае же обретения агрессией свойств надличностной сущности, она получает возможность быть рядом с человеком как образец и служить ему для подражания. Агрессии останется быть таковой для своего распространения и она сделает всё для этого. Более подробно скажем об этом в необходимых местах.
Итак, мы определились, что главным персонажем наших размышлений будет агрессия в своих проявлениях, метаморфозы в окружении чувств, последовавших за нею и образующих некое единение сил. Этот силовой тандем и станет по нашему разумению важной предпосылкой грядущего Века агрессии. Значимое место здесь отводится симбиозу чувств с агрессией, который способен повести за собой мысли, выражаясь всецело в поведенческих актах и действиях. Это то, что выступает «базовым конгломератом» и по существу является продуктом складывания составляющих на стадии «преддверия» и предпосылкой стадии «вхождения» и становления как утверждения компонентов целостности Века агрессии.



