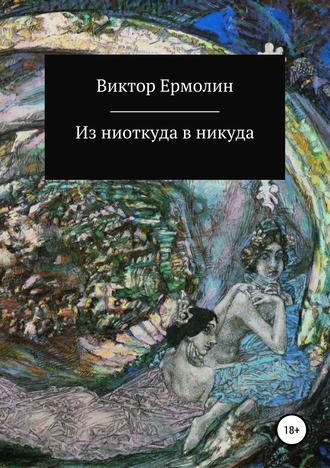 полная версия
полная версияИз ниоткуда в никуда
* * *
Снова за большим столом, кроме меня, сидит троица: отец, старуха и молодая девушка.
– Зачем вы умерли? – вдруг спрашиваю я, вспомнив о смерти.
В зале из ниоткуда появляется еще одна девушка. Цвет ее волос – рыжий.
– Я убеждена, – сказала она – что становление человека, как личности, происходит за счет факторов, которые ломают «чистую доску».
Стоило ей это произнести, как молодая девушка, сидевшая за столом, упала на пол. Раздался душераздирающий треск ломающихся костей.
– Ты можешь также называть это «разбитыми розовыми очками» или «переходом из незнания к знанию», – продолжила рыжеволосая. – Но такова суть – все мы уникальны в том, что нас когда-то давно сломало.
Пришла очередь старухи. Ее стало бросать из стороны в сторону, бить о стены, пока тело не превратилось в кровавый комок.
– И обратный процесс не существует.
Раздался одиночный выстрел.
* * *
Когда Петр открыл глаза, подушка оказалась мокрой от слез. Очередная попытка побороть свой страх смерти увенчалась провалом.
VIII. Из ниоткуда
Постоянным обитателем лоджии считался стол. Помимо книги с надписью «Замок», различной канцелярии, пустой чайной кружки из коричневого французского стекла, кактуса со скривившейся набок верхушкой (оттого, что растение долгое время вплотную прилегало к нависающей над ним полкой), оловянной фигурки, конечности которой то и дело ломались или сплющивались, на гладкой деревянной поверхности лежали две тетради. Первая внешне напоминала старую советскую папку с надписью «Дело». На разлинованном по центру прямоугольнике было написано название аккуратным почерком с округлыми хвостиками букв: «Инспиризм, или мир сквозь призму вдохновения. Записки Ф. К. Флеймана». Вторая, совсем не примечательная внешне, была намного удобнее предыдущей благодаря широким металлическим кольцам на корешке. На ее обложке значилось заглавие – «Дневник». Правее него можно было распознать силуэт еще одного слова, но то ли оно было наполовину стерто, то ли запачкано чем-то.
Потолок и стены лоджии, которая в теплые времена года использовалась как кабинет, были обшиты досками. Пребывание в ней всегда вызывало ощущение словно попал в русскую баню. Особенно сильно это чувствовалось в жару летом, когда древесная смола начинала подтаивать, заполняя округу приятным лесным ароматом, а температура внутри помещения достигала выше той, что на улице. Зимой же сидеть в ней было невыносимо: ветер дул из всех щелей стен, плинтусов и оконной рамы, по укрытому ковролином полу тянул неприятный мороз. Иногда температура внутри падала до плюс девяти, если кто-то случайно закрывал единственную, связующую с гостиной, дверь.
Гостиную же сложно было называть гостиной, ведь она являлась и спальней, и столовой, и даже библиотекой. Книги заполняли каждый закуток кубообразной комнаты. Ими были забиты полки, выдвижные шкафчики, тумба, маленький кофейный столик, сиденья стульев. Некоторые особо ненужные издания служили подпорками дивана, который когда-то давно разрывал ножками линолеум. Но даже несмотря на такое обилие печатной продукции, все было аккуратно разложено и максимально педантично прибрано.
Вдруг Флейман захотел покурить. Такие резкие порывы наполнить легкие никотином наступали у него крайне редко, поскольку кружащее голову ощущение от первой сигареты зачастую вызывало у него тошноту. Однако сейчас он не мог не вкусить дешевый табак из-за растущей нервозности. Одымлял он себя исключительно на той самой лоджии, где непринужденная картинка за окном расслабляла его еще сильнее. Правильно затягиваться он никогда не умел: сначала набирал дым в рот, а затем проталкивал его глубже следующим резким вдохом. Наконец, закрывая глаз, он медленно опустошал легкие.
Сделав пару глотков дыма, Флейман отвернулся от распахнутого окна и устремил свой взгляд на тетради. Сев на обшарпанное кожаное кресло на колесиках, заменить которое не поднималась рука из-за удобной, принявший изгиб тела хозяина, спинки, он раскрыл «Дневник» на пустой странице. Важно было зафиксировать все, что произошло за последнюю неделю, но мысли никак не шли.
Флейман закрыл глаза, чтобы все доподлинно вспомнить.
***
Вход в белый цветущий Дендропарк близ Гринвича смрадил хуже, чем уборная вокзала. Зловоние витало не потому, что с яблонями было что-то не так, а благодаря канализации, которую уже несколько лет не могли починить ответственные службы. То было каким-то наказанием: нумерация домов резко обрывалась на той цифре, где должен был стоять музей Неизвестно, и по злейшей иронии приходилось искать потерявшееся здание среди невыносимой вони.
Вдруг из-за поворота появилась счастливая, держащаяся за руки, пара. Я не расслышал ни слов из их диалога, но отдаленно напоминающая «музей Эрнста» фраза дала знак, что нужно следовать за ними. Причем преследовать долго не пришлось – здание оказалось буквально там же, где я распознал отзвуки того, что искал.
Зайдя вовнутрь, я сразу завернул налево, интуитивно предполагая, что в том маленьком закутке находится касса. Тесная, она едва ли могла вместить четырех человек, однако именно там был расположен гардероб и диванчики для смены обуви.
– Вам на что? – раздался сиплый голос морщинистой дамы в очках. Ее пылающее алым пухлое лицо напоминало подтаявшую свечку: мешки под глазами набухли, щеки и шея обвисли.
– Я, по правде говоря, не знаю, – растерянно ответил я. А что мне оставалось сказать? Я не и имел и малейшего представления о том, на что меня пригласили. – Сегодня есть какой-нибудь спектакль?
– «Резо», – выфыркнула она, – брать будете?
– Давайте.
– Пятьсот рублей.
Я выложил на стол свеженькую, недавно вышедшую мне из банкомата купюру с Петром Великим, взял билет и довольный последовал по ступеням наверх. Кругом висели фотографии, картины, экспонаты, но времени разглядывать их у меня не было – я и так зашел в музей на грани перед самым началом спектакля.
– Пожалуйста, проходите, – приторно улыбаясь, сказала женщина у парапета, указывая пальцем направо.
Я зашел в маленький темный зал. Сложно передать словами удивление, когда перед моим взором предстал обшарпанный пуфик за полтысячи. Какое обдиралово! Сам же зал оказался чуть больше моей комнаты: в нём едва ли поместилось ряда два сидящих и один ряд стоячих мест для тех, кто был готов выложить только три Больших театра за творческую самодеятельность.
Сутулясь, в силу неожиданно возникшей стеснительности от таращащихся на меня глаз, я прошел до самого конца «партера» и сел на крайнее место первого ряда. Впереди, в метрах двух от меня, стояла якобы грузинская девушка в бедном крестьянском платье черного цвета. Голова ее была покрыта белым платком, волосы аккуратно убраны. Руки актрисы, испачканные мукой, раскатывали скалкой по прямоугольной гранитной плите массивный блинчик теста.
Ее я сразу узнал: ровные красивые девичьи черты лица, испорченные полупустыми голубыми глазами были у единственного человека моего окружения. Ей можно было дать двадцать семь, или даже двадцать девять лет. Возможно, причиной тому была иллюзия, создаваемая короткой прической. Раньше она носила длинные волосы ниже талии, потом решила сменить стиль. Женственности от этого не поубавилось, лишь сбился идентификатор возраста. Имя ее, Евгения, вполне соответствовало внешности и образу в целом.
Продолжая разглядывать ее, я чуть маякнул рукой, чтобы обозначить, что я пришел и свое обещание выполнил. Я знаю, что в тот момент она не смотрела на меня, но жест мой однозначно заметила, быть может боковым зрением. Пожалуй, это одно из самых важных правил актера – не выходить из роли, пока находишься на сцене.
Немного погодя я осознал, что спектакль еще не начался. То была лишь прелюдия, погружающая зрителя в атмосферу грузинской деревушки начала прошлого века. Все это я почувствовал только, когда в зале ощутимее приглушили свет и пустили чуждую моему слуху этническую музыку. Следом за звуками неизвестного струнного инструмента из ниоткуда возникла другая девушка. Ее хрупкое девичье тело обрамляло аналогичное черно платье, которое почему-то смотрелось на ней гораздо роскошнее обыкновенного крестьянского. В изящных руках с длинными пальцами она держала выпуклый полупрозрачный кувшин с длинным носиком, в котором мне показалось красное вино. Плавая легкой походкой, она медленно приблизилась к первому ряду, чтобы продемонстрировать причудливую утварь зрителям. Плавные движения ее кистей постепенно стали приобретать некий сакральный характер.
Вблизи, в свете тусклых прожекторов, мне удалось получше ее разглядеть. Яркие рыжие волосы в косе до копчика. Аккуратные тонкие губы в алой помаде. Белая кожа. Еле заметная родинка на ямочке под носом. Темно-зеленые глаза.
Мы встретились взглядом: две идеально черные точки с оттенком глубокой печали на какое-то мгновение отразились в моих глазах. Вдруг мне почудилось в них что-то родное, до боли знакомое. Но не успел я осознать что, как она упорхнула обратно на сцену.
Появился главный герой – высокий мужчина с черным барашком волос. Зрителям он представился как Резо – известный (но не для меня) грузинский театрал и художник. Отдаленно он, конечно, мог сойти за грузина, если бы не славянский нос, который быстро разрушал образ. Да и тело актера, покрытое костюмированными лохмотьями, не вызывало должного эффекта. Худощавое, бледное, венозное – оно было далеко от моего представления о кавказцах. Речь же в контраст была с акцентом, к тому же поставленной, четкой, как у профессионального диктора.
Рассказывая от первого лица жизнь грузинского писателя, актер, кажется, даже и не собирался давать вставить слово своим помощницам. Он тянул монолог на протяжении часа или двух, оставляя актрисам лишь вспомогательную роль – то ли декорации, то ли реквизита. Но я его не слушал. Слова все шли мимо моего внимания, а я лишь думал о том, как вновь встретиться взглядом с рыжей незнакомкой. Она то пропадала за кулисами, то проскальзывала мимо меня. И все это время я не мог оторвать глаз от нее или порога, за которым она скрывалась. Сам того не ожидая, я так увлекся этой девушкой, что даже не заметил, как закончился спектакль.
Не дожидаясь появления Жени, с которой мне не захотелось встречаться, я с общим потоком зрителей спустился вниз и вышел на улицу. Со стороны дендропарка повеяло свежестью с ароматом цветущих яблонь и черемухи. Достав сигарету, я с особой жадностью втянул в себя дым, и глубоко задумался. «Такое интересное лицо», – пронеслось в моей голове. Яркая и живая, она предстала в моей памяти человеком, к которому тянешься также, как мотылек тянется к свету. И стоило мне мысленно воссоздать ее образ, как я осознал, что жажду вновь ее увидеть.
На часах было детское время: половина десятого. Прижавшись спиной к столбу близ входа, я стал по-пёсьи покорно ждать ее появления. Из музея до сих пор выходили зрители – те, что остались поглазеть на непонятное творчество Неизвестного. Еще минут тридцать дверь то и дело открывалась и хлопала, затем снова открывалась и хлопала, пока наконец не скрипнула и застыла. Заморосил дождь. Хотелось вновь закурить, но погода уже не позволяла вредить легким. Улицу Добролюбова стала окутывать тьма с легким ритмом барабанящих по карнизам каплям. Наконец, примерно в половину одиннадцатого, дверь в очередной раз распахнулась. Резко потянуло теплом, блеснул холодный свет и передо мной предстала она – безобразная дама-свечка.
– Что вам надо? Что вы забыли? – с подозрением обратилась она ко мне, сощурив свои маленькие бульдожьи глазки.
– Я жду свою подругу. Она играет здесь в театре.
– Актеры час назад ушли. Они выходят через другой вход.
– Вы серьезно?
– Я закрываю дверь. Уходите, – раздраженно произнесла она, нервно проворачивая ключ в замочной скважине.
Послушав морщинистую даму, я пошел домой. В мое лицо вновь ударил смрад улицы Радищева, отчего на душе стало еще сквернее. В таком настроении я брел пешком до улицы Ленина, где сел в пустую маршрутку. В пути мое разочарование разгорелось с новой силой: я вспомнил ее лицо, тонкую линию губ, глубину глаз. Каждая секунда в голове растянулась в минуты. Не изменяя себе я вспомнил фразу лектора по психологии, что кухарка у плиты воспринимает время иначе, чем живой судак, которого она жарит на раскаленной сковородке. Забавно, но я сам не понял, зачем это вспомнил.
Дома мой мозг стал лихорадочно порождать варианты, как снова встретиться с зеленоглазой незнакомкой. Ждать ее у входа в музей – бред. Расспрашивать сотрудников внутри – еще нелепее. Брошюра? Точно, брошюра! Ведь в них всегда печатают имена актеров. Засунул руку в сумку, нашарил глянцевую бумажку, сложенную втрое, раскрыл ее на последней странице.
– Данил Ветров – Резо;
– Евгения Перескокова – девушка #1;
– Василиса Воскресенская – девушка #2.
Василиса Воскресенская? Такое сочетание имени и фамилии мне показалось слишком причудливым, несуществующим, чтобы оказаться правдой. Но несомненно стоило попытать удачу ее найти. Выйдя в социальную сеть, я ввел в поисковик это странное сплетение букв и получил три десятка совпадений по России. Ограничив географию до Екатеринбурга, я свел результат к одному варианту, который впрочем меня не удовлетворил. На своей страничке девушка демонстрировала свои округлые формы на камеру в одном нижнем белье, в откровенных позах, в разных обстановках. Ее храбрости можно было позавидовать: она фотографировала себя не только дома или в примерочных магазинов, но даже во дворе на улице. Но сколько бы я ни листал, ни на одном из сотен снимков не было ее лица.
Вернув стандартные настройки, я перепроверил всех пользователей с таким же именем, тщательно разглядывая каждую фотографию, но и то оказалось напрасным. Уставившись в потолок, я принялся обдумывать новые пути. Попытаться отыскать через Жениных друзей? Разумно, если бы ее саму можно было найти. Видать, такая мода сейчас – не называть себя в сети настоящим именем.
Вдруг меня осенило: у любого театра должна быть официальная группа. На все той же брошюре значилась простая аббревиатура названия без расшифровки – «Э.С.Т.». Итог ввода оказался весьма положительным: «Экспериментальный Студенческий Театр (Екатеринбург)». Однако искать среди восьми сотен участников я не решился. Пролистав мириады имен и фотографий, я ощутил себя ловцом воздуха в дырявый мешок. Благо в галерее оказался фотоархив спектаклей. «Превращение» Кафки, «Роман с кокаином» Агеева, пьесы Метерлинка – на этих выступлениях не было никого похожего на незнакомку. Даже на кадрах с выступлений «Резо» мелькали совершенно другие люди, словно спектакля, на котором я присутствовал, никогда и не было.
На следующее утро я серьезно задумался. А что, если мне все это приснилось? Нет, все вчерашнее не могло оказаться сном – яркая брошюра на столе была тому подтверждением. Я изучил ее снова со всех сторон, затем вновь зашел в группу социальных сетей и на второй круг пересмотрел фотографии. Что и требовалось доказать – никого похожего на нее.
Только запись о повторном показе «Резо» в следующий четверг теплила хоть какую-то надежду. Но как прожить целую неделю, когда каждый день проходит в настоящем бреду? Днем угадываешь в каждой третьей девушке знакомые черты: то мелькнут рыжие волосы, то лицо у прохожей похожее, то платье в черно-белой цветовой гамме. Вечером еще хлеще – постоянно гложет чувство, что незнакомка ускользает, а того хуже, что она уже кому-то принадлежит. Я даже стал наказывать себя и воображать, что делают с ней другие мужчины.
Но самым невыносимым оказался долгожданный четверг. В тот день неистово палило солнце, и добролюбовская вонь беспощадно била по легким. Я спрятался от нее в прохладных стенах музея за целый час до начала заветного спектакля. Поднявшись на второй этаж, я стал бродить среди экспонатов. К сожалению, я был слишком далек от искусства диссидентов. Кругом я видел только гротеск, и кроме статуэтки «Орфея», известной в народе скорее как «ТЭФИ», и реалистичной человеческой фигуры, вписанной в искаженную бронзовую композицию, ничто не могло зацепить мое внимание. Последняя, восседающая на зверинном черепе обнаженная женская фигура с характерно выраженными формами, напомнила мне ту Василису Воскресенскую из сети, которая щедро демонстрирует все свои прелести. Я смотрел на нее, и мне было странно, что подобным занимаются молодые девушки.
Зал стали наполнять люди. Я оторвался от любования искусством и сел на прежнее крайнее место, чтоб явно выделить себя для моей незнакомки. Минут через десять Женя заняла свое исходное положение. Увидев меня, она не смогла скрыть свое смешанное с радостью удивление, и чуть заметно помахала мне рукой. Я ответил ей тем же жестом. Теперь, в отличие от прошлого раза, она то и дело бросала на меня свой взгляд, но он оказался мне в тягость, отчего я намеренно смотрел по сторонам, избегая с ней зрительного контакта. Зазвучала музыка. Я вперился взором в порог, из-за которого в прошлый раз возникла вторая актриса. Вот появилась нога, небольшой лоскут платья. Сердце забилось с бешенной силой. Но то была ненастоящая Василиса. Маленькая и пухлая, она сильно напоминала эвока, медведеобразного существа из фильма 1983 года, только бритого наголо. Большой русский нос картошкой завершал этот слегка комичный образ, а заодно разрушал последние мои надежды.
Проклятая этика вынудила меня остаться и досмотреть спектакль до конца. Теперь я развлекал себя внимательным вслушиванием в речь Резо и лицезрением роли моей старой знакомой, которая оказалась весьма любопытной. На протяжении всего спектакля она брала в руки странные самодельные предметы, измазанные толстым слоем белой краски, наводила их на тусклые прожекторы, которые бросали четкие тени на стены, пол, потолок и зрительские лица. Пространство вокруг преображалось: это был уже не современный Екатеринбург, но постреволюционная деревушка в Грузии. Черные силуэты, выделывая фуэте, стали воскрешать столетние дома, скот, жителей. Актеры и зрители, гранитная плита и стулья, фигура на черепе и «ТЭФИ» – все это слилось в единую массу. А через час все вернулось, как было.
Спектакль закончился. Подражая самому себе недельной давности, я встал, чтобы слиться с уходящим потоком, однако звучащий за моей спиной знакомый голос смог меня остановить:
– Я вижу, ты записался в фан-клуб нашего театра?
– Пока только успел вступить в кружок жестких критиков.
Я повернулся к хозяйке голоса лицом. В ответ она улыбалась такой живой и настоящей улыбкой, что мне нельзя было скупиться и дарить ей меньшую.
– Здравствуй, Феликс.
– Привет, Женя.
– Не ожидала тебя увидеть здесь снова. Неужели мы так великолепно играли?
– Разве мое второе пришествие не достаточно красноречиво говорит об этом?
– Не знаю. Может ты пришел бросать в нас помидоры.
– О, если бы мне не понравилось, я бы не стал так мелочиться и запустил бы в вас камни. Но сегодня не переживай – ваш театр меня заинтересовал.
– Приятно слышать, – расцветая в еще большей улыбке, произнесла она. Затем совершенно внезапно поддалась вперед и издала многозначительное «хм-м». – Не замечала раньше, что ты носишь очки. Минусовые?
– Тебе ли не знать, что они декоративные.
– Я и говорю, вижу впервые.
– Разве это не твои очки?
– В смысле? Как они могут быть моими, находясь на твоем лице?
– Странно…
– Феликс, с тобой все в порядке?
– Да, все нормально. Видимо, их правда оставил кто-то другой.
– Зачем тогда ты их носишь?
– Мне идет?
– В них ты больше похож на интеллигента.
– А без них?
– На моего деда с довоенных фотографий.
– Значит решено – не сниму их до конца своих дней.
– Ты вроде бы шутишь, но внутри почему-то предчувствие, что ты серьезен.
Она рассмеялась. Наблюдая за расположением ко мне моей старой знакомой, я вдруг осознал, что судьба дает мне исключительный шанс отыскать то, что я так жажду найти.
– Расскажешь о вашем театре? – возвращаясь на прежнее место, и приглашая сесть рядом Женю, спросил я. Перескокова кивнула и расположилась напротив.
– Что тебе рассказать? Из нашего названия понятно, что труппа практически полностью состоит из студентов, и что мы экспериментируем в плане выражения классических произведений.
– Сколько вас?
– Сколько в труппе? Подожди, сейчас посчитаю: Лиля, Данил… Рома, так… две Маши, Кристина. Это уже шесть. Ну, и считая меня – семь человек.
– А как же Василиса?
– Какая Василиса?
Я сунул руку в карман сумки, где лежала брошюра. Внутри оказалось пусто.
– Девушка, которая играла с вами на той неделе.
– Это была Маша.
Меня взяли сомнения. Я отчетливо помнил, как читал брошюру, как видел то имя, как вводил его в социальных сетях. Посмотрев по сторонам, я обнаружил свежую листовку на пуфике неподалеку и потянулся за ней.
– Вот, смотри, – разворачивая перед глазами Жени цветные страницы, произнес я.
– Куда смотреть? Там «Маша Васильева» написано. Она сегодня вторую девушку играла.
Я повернул страницу с актерами к себе – Женя была права. Вновь сунув руку в сумку, я стал лихорадочно в ней шарить, чтобы подтвердить мои слова уже не Жене, но себе.
– Что ты все время так нервно ищешь?
– Я потерял старую брошюру.
– Там тоже Маша была.
– Да нет же, там было написано «Василиса Воскресенская».
– Да я тебе говорю – там была Маша. Но не Васильева, а Лучезарская.
То ли мои мысли, то ли слова Жени звучали как бред. Мои надежды в очередной раз накрывались медным тазом, но вопреки безысходности мозг выдал еще один последний вариант.
– Ладно, тебе видней.
– Феликс Флейман умеет уступать? Это удивительно, – подколола она.
– Лучше расскажи мне о вашем театре. Как он появился? В чем его суть?
– Об этом лучше меня никто не расскажет, – вдруг послышался незнакомый голос из соседнего зала. Женя встала.
– Феликс, это Лиля. Мать нашего театра.
– Прямо-таки «мать»? Я же всего на пару лет всех старше! – шуточно возмутилась новоприбывшая девушка.
Под полупотемочным светом софитов внешность девушки все равно читалась идеально. Острые дуги широких темных бровей особенно ясно подчеркивали ее живую и эмоциональную мимику. Темные пряди завитых и собранных в пучок волос отдаленно напоминали связку сухих веток. Особенно гармонично в эту внешность вписывался выдающийся прямой нос.
– Приятно с вами познакомиться.
– Давай без этих формальностей. Меня и так уже сегодня обозвали старухой, – выдерживая прежнюю иронию, ответила Лиля. – Это твой друг?
– Да. Зовут – Феликс Флейман.
– Это что, кличка?
– Нет, мое настоящее имя.
– Что ж, у твоих родителей хорошее чувство юмора.
– Да – отличная шутка длинною в жизнь.
– Ладно, что ты хотел узнать?
– Когда и как появился ваш театр.
– В связи с чем такой интерес?
– Просто меня пьесы еще ни разу так не касались. Вот я и подумал, что все это не просто так, – пытаясь никак не выдать свои истинные цели, пожал я плечами. О, нет, я не солгал. По правде говоря, я не шибко разбираюсь в театре. Единственный спектакль, который я видел помимо «Резо» – это «Пигмалион» Бернарда Шоу. С ним у меня есть даже забавная история. В общем, произошло это года три назад. Два билеты на эту постановку в Театр Драмы подарили моей маме. Роль сопровождающего, конечно же, выпала мне. Я, как любой «образованный» человек, залез в википедию перед началом выступления и подробно изучил сюжет одноименного мифа. «Скульптор создал из слоновой кости статую девушки и влюбился в своё творение». «Античное искусство!», – подумал я. Пришли, началось первое действие. На сцене какие-то джентльмены, нищенка. В голове первый и единственный вопрос: «Что вообще происходит?». Я сразу стал про себя плеваться, мол, «как отвратительно» и «современный театр все извратил». И я же потом с этими мыслями еще пару месяце ходил! Пока однажды не завел с кем-то разговор о нашем театре. Говорю, дескать: «Не понимаю я современный театр, все опошлил, исказили»; «Один этот Шоу чего стоит!». Вот же я ударил лицом в грязь тогда…
– Это приятно слышать, но если честно, я ничего нового не изобрела.
– Пускай, мне все равно любопытно, как ты до этого дошла.
– Жила лет десять назад в Москве, посещала «Школу драматического искусства» – так называется театр – где мне посчастливилось увидеть постановку по «Кроткой» Достоевского. Вообще удивительный рассказ – написан в 76 году, а чистой воды модернизм, с таким ограниченным закрытым пространством. А это самоубийство с иконой в руках чего стоит! – Лиля на какое-то время замолчала. – Что-то меня не туда понесло. Короче, я была еще тогда студенткой и восторгалась всем экстраординарным, а тут как раз их пьеса, представляешь, без единого слова. И всего два средства выражения – музыка и танец. Причем одно без другого вполне могло существовать. А все почему? Потому что когда идет от души – не важно какими путями пытаешься пробиться – своего зрителя или слушателя все равно найдешь.

