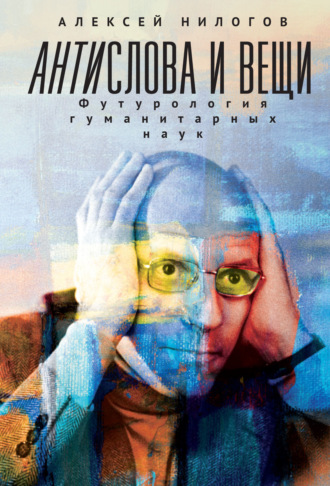
Полная версия
Антислова и вещи. Футурология гуманитарных наук
Антиязык как идеальный язык может быть переформатирован лишь тогда, когда невоантиязыковляемое будет полностью укрощено в его виртуальном двойнике: расставляя ловушки «изначального опоздания» внутри антиязыка, мы инициируем редукцию самого идеального языка, слова которого оказываются абсолютными омонимами со словами языка бытия, поэтому прецеденты идеального языка корректней квалифицировать как явления виртуального антиязыка. Смешение идеального языка и естественного языка, естественного языка и естественного антиязыка является непреложным условием сосуществования различных распаковок семантического континуума (вероятностная теория смыслов Налимова): на примере праформологизмов очевидно, что вероятность присутствия идеального языка, не обременённого «изначальным опозданием», уравновешивается посредством антиязыка, который выступает семантическим фундаментом для любой семиотики; перефразируя сознание и бессознательное у Ясперса, скажем: «Наш язык опирается на антиязык, он всё время вырастает из антиязыка и возвращается к нему. Однако узнать что – либо об антиязыке мы можем только посредством языка. В каждом языковом действии нашей жизни, особенно в каждом творческом акте нашего духа, нам помогает антиязык, присутствующий в нас. Чистый язык ни на что не способен. Язык подобен гребню волны, вершине айсберга»31 (несмотря на методологическую редукцию в исследовании антиязыка за счёт языка, отметим, что слишком метафорическое противопоставление языка и антиязыка необходимо для того, чтобы оправдать последний в качестве самостоятельного средства номинации неноминабельного). Феномен ксеноглоссии для гипотетического антиязыкового носителя: «Один из таких случаев, в деталях описанный Стивенсоном [Stevenson, 1974], касается американской домохозяйки, которая в гипнотическом состоянии трансформировалась в мужскую персону, говорящую по – шведски и понимающую этот язык на уровне высокоинтеллектуального общения. Отмечается, правда, что в литературе имеется мало описаний хорошо документированных случаев подобного рода. Во второй книге Стивенсон [Stevenson, 1984] рассказывает в деталях ещё о двух случаях ксеноглоссии. В одном из них переход к другой персональности осуществлялся без использования гипноза – спонтанно. Второе – иноязычное состояние персональности сопровождалось проявлением детального знания о жизни в стране прошлого рождения»32.
21
Идеальный антиязык. Не знающий невоантиязыковляемого, возможно, сосуществует с естественным антиязыком, но примеры такого откровенно паразитического сосуществования не подлежат обантиязычиванию (антиречь об идеал – антиязыке может быть представлена следующим образом: примеры идеального антиязыка нерелевантны к невоантиязыковляемому, то есть образуют соответствующий класс антислов, включающий все случаи невоантиязыковления в таком виде, что их можно использовать для антиязыкового прикрытия невозможности передавать значение одного антислова другими антисловами (асинонимоантилогизмы: между различными примерами невоантиязыковляемости лежит нетранспарентность, формально объединяющая в один класс и не допускающая перевод одного антислова в другое в пределах данного класса)).
То, что невозможно воантиязыковить, является маркёром внутренних пределов антиязыка по ограничению его собственной автореферентности. Какова единица измерения «изначального опоздания», если «одна секунда – это интервал времени, равный 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия – 133 при отсутствии возмущения внешними полями»? Имеет ли смысл принцип «изначального опоздания», если эмпирически время нефиксируемо? 33 Насколько Вирилио компетентен в проблеме «изначального опоздания», если он то и дело смешивает такие понятия, как скорость и ускорение? 34 Какова участь «изначального опоздания» при нейролингвистическом программировании (НЛП)? Является ли «изначальное опоздание» семиотической константой? Какую роль выполняет «изначальное опоздание» при передаче дезинформации? Что может служить резонатором «изначального опоздания»? Насколько утопично «изначальное опоздание» для идеального языка, независимого от носителей? Можно ли созерцать «изначальное опоздание» в модусе (синхронной) телепатии?
Слова, обозначающие слова, которые являются названиями референтов с отсутствующей автореферентностью (самопредставимостью), то есть с невозможной обратимостью на себя, – антиавтореферентологизмы. То, что не может быть поименовано на антиязыке, не уживается с категорией невоантиязыковлённого, пребывающего в модусе идеального антиязыка на периферии номинации. Исчерпание невоантиязыковлённого составляет тайну идеального антиязыка, рассчитанную на паритетное обращение логики различия в парадокс безразличия, когда автоматизм отсрочки следов подменяется какофонией логоцентризма (то, что не усваивается всеядностью естественного антиязыка, превращается в пищу для настоящих языководов, несмотря на специфический (семито–хамитский) привкус эпштейнизма).
Порождение антиязыка, чей генезис не укладывается ни в одну хронологию, может быть сопоставим с божественным дарованием имён, синонимизирующим референтность с семиотичностью: синхронная номинация вещи с момента её возникновения до момента её уничтожения доступна только на идеальном антиязыке, тогда как божественному языку отводится приоритет для отсрочки следов в статусе до и после онтологии вещи. Темпоральное удержание вещи в её имени приводит к тому, что «изначальное опоздание» становится псевдонимной константой, за которой скрывается автоним референта. Немотивированная номинация по преимуществу указывает на то, что вещи могут именоваться лишь на основании несобственного названия, выполняющего различительную функцию при тождестве всех аутентичностей.
Если одна вещь не отличается от другой вещи – значит существует феномен абсолютной автонимии и соответствующий класс антислов (слова, обозначающие слова, которые являются названиями референтов, чьи названия идентифицируют их одинаковость (необязательно попарно), – автонимологизмы); с одной стороны, одинаковость имён, а с другой – одинаковость их носителей: поскольку не существует идентичных вещей (а также их имён в статусе референтов), постольку предположение о таких отождествлениях с неминуемым растождествлением в синонимию является номинабельным вызовом, влекущим за собой скандал в философии антиязыка, а именно: отождествление тех или иных антислов в качестве референтов, не говоря о тех вещах, которые они воантиязыковляют; автонимологизмы деконструируют антиязык изнутри его автореферентности, поименованной при помощи идеальных антислов, существующих сразу во всех антиязыковых статусах (автонимологизация невоантиязыковляемого представляет собой уравнение с неизвестным знаком между двумя членами, делающим любую математическую аналогию крайне уязвимой, но сподручной для того, чтобы математизировать антиязык по матричному типу. Математизация сродни семиотизации языка бытия при условии воантиязыковления всех чисел в рамках математической комбинаторики, исчерпывающей словесную (например, названия для бесконечного натурального числового ряда) на пустой класс антикомбинаторологизмов – антислов, не поддающихся антиязыковой комбинаторике, которая не знает никаких формул для вычисления себя, а потому остаётся в буфере неизвестности). Деконструкция в отношении комбинаторики должна привести к отмене манипуляции бесконечностью, не обеспеченной адекватным субстратом.
22
Онтологическая сатисфакция. Гапаксная герменевтика предполагает одну – единственную интерпретацию, которая может быть признана аутентичной, а может и нет, но в отношении которой в любом случае бездейственно «изначальное опоздание», рассчитанное если не на отсрочку подлинного смысла, то на отсрочку неподлинного; с другой стороны, «изначальному опозданию» безразлично количество употреблений того или иного слова, в котором между означаемым и означающим отсутствует синхрония, а следовательно, ставится под сомнение витгенштейновская трактовка эксклюзивного (гапаксного) значения слова (ракурс–словоформа от Витгенштейна: «…значение слова – это его употребление в языке»35), поскольку «изначальное опоздание» не брезгует даже в беспрецедентном использовании языка.
Пример самообмана для носителя «изначального опоздания»: «…нередко и в обыденной речи, и в сочинениях путём сравнения мыслей, высказываемых автором о своём предмете, мы понимаем его лучше, чем он сам себя, если он недостаточно точно определил своё понятие и из–за этого иногда говорил или даже думал несогласно со своими собственными намерениями» (Кант)36; таким образом, прецедент подлинного понимания, не подвластного «изначальному опозданию», доступен исключительно в режиме самообмана, который, например, по Сартру, принципиально невозможен, несмотря на то, что самообман может быть как воязыковлённым, так и невоязыковлённым. Слова, обозначающие слова, которые невозможно передать другими словами, то есть синонимами, – асинонимологизмы (Б.Ф. Поршнев: «Между тем любой человеческий языковой знак имеет эквивалент – однозначную замену. Это либо слова–синонимы, либо чаще составные и сложные предложения или даже длинные тексты. Нет такого слова, значение которого нельзя было бы передать другими словами»37); например, по Налимову, мир представляет собой множество текстов, которые характеризуются дискретной (семиотической) и континуальной (семантической) составляющими: следовательно, относительность семиотики определяется безотносительностью семантики, которая в свою очередь упирается в бессмыслицу, чей смысл тождественен абсурду, понимаемому отнюдь не в модусе неозначенного, а в модусе необессмысленного. То, что не может быть обессмыслено, немыслимо до тех пор, пока бессмыслица является критерием собственного смысла, то есть замкнута на тавтологическую автореферентность: автореференция – это не тавтология, а то, что служит самопредставлением вещи (например, смысл слова как референт самого слова). Если бессмыслица является представлением самой себя, то, не выяснив смысла бессмыслицы, существует риск холостого уподобления бессмыслицы бессмыслице.
Смысл бессмыслицы – бессмыслица, которая должна быть различена со своей тавтологией: пример бессмыслицы непереводим на язык смысла, поскольку смыслом бессмыслицы является не бессмыслица смысла, несмотря на технический бинаризм в оперировании терминами, а бессмыслица самой бессмыслицы, когда бессмыслица обессмыслена, то есть отсутствует вообще потребность в бессмыслице; бессмысленность может быть обессмыслена путём упразднения различия между смыслом и бессмыслицей, а именно: благодаря сведению смысла к его автореференции – смыслу смысла, который представляет собой не метасмысл, иначе бы потребовалось умножение сущностей, а то достаточное основание, которое нередуцируемо к difference. Смысл смысла – в абсолютной бессмыслице, которая является неразличающим пределом, отграничивающим смысл от бессмыслицы: поскольку беспрецедентность бессмыслицы противоречит прецедентности смысла, постольку смысл смысла не поддаётся не только осмыслению, но и обессмысливанию, в последнем случае – в присутствии потребности в смысле, определяющем сущность вещей; бессмыслица бессмыслицы полагается в качестве различия тавтологии и её автореференции – в исчерпании бессмыслицы посредством исчерпания комбинаторики оператора бессмысленности, который требует бессмысленности, но язык непригоден для этого, идя на 50% компромисс: с одной стороны, оператор бронирует прецедент бессмысленности на онтологическом уровне потребности, а язык пасует перед ней и используется вхолостую; вводя оператор оператора бессмысленности, получается соотношение 75%/25% и т. д., но подчинённое трансфинитности натурального числового ряда. Процесс обессмысливания бессмыслицы представляет собой стирание семантических следов, ведущих к смыслу автоматического письма, чьё зомбирование не подчинено онтологическому разногласию, согласно которому человек думает, что автономен в своём сознании, а между тем кукловодим Злокозненным Демоном, разделяющим онтологию предустановленной гармонии в ситуации, когда невозможна постановка вопроса об онтологическом статусе собственного существования. Упреждение вопрошания об онтологическом статусе является пафосом манипуляции и отчуждения, благодаря тандему которых иллюзия собственного существования скоррелирована с иллюзией трансценденции онтологического (подозрение к онтологической сатисфакции в отношении к той или иной реальности указывает на то, что релятивизм не может быть противопоставлен солипсизму, рассчитывая только на метауровень аргументации: бесконечная редукция, отсылающая от одного онтологического статуса к другому, может быть подвергнута автореферентизации, чтобы замкнуться, подавая пример для автореферентности онтологической статусности, которая рискует сама быть поставленной под нериторический, или тавтологический, вопрос).
Смешение различных реальностей вопреки онтологической субординации оказывается панацеей от случайной дискриминации, латентность которой может быть озадачить самого искушённого Злокозненного Демона (трансгрессия манипуляции начинается там, где заканчивается собственно философское вопрошание, а ему на смену приходит мизософское, то есть подлинно антифилософское, располагающееся по ту сторону любой философии: языковые игры, составляющие конвертируемость онтологических игр, открывают возможность антиязыковых игр, с помощью которых удастся обыграть метафизику присутствия/отсутствия, ответив на зуд проклятого вопрошания). Онтологическая статусность является оборотной стороной закона достаточного основания, поскольку то и дело грешит усомниться в самой себе, несмотря на то, что модус вопрошания задаёт координаты для центрации стержня субординации; бессмыслица налагает запрет на всенедозволенность, которая в отличие от anything goes тщится соблюсти нейтралитет семантического вкуса. Значение антислова – это его неупотребление в языке.
23
Онтологическая синхронизация. Онтологическое вопрошание упирается в безумие вопрошания о самом вопрошании (Богатов), но не противится бессмыслице, знающей толк в контролируемой одержимости (модус онтологического вопрошания может быть инспирирован намеренно, чтобы оттенить квазиобразность тестируемой референтности, но небезальтернативно для фальсификационной методологии; онтология онтологического вопрошания тавтологична не столько формально, сколько оптимально, представляя собой эталон тавтологичности, деконструкция которого заняла бы всё поле герменевтики). Не исключено, что в будущем развитие аудиотехники дойдёт до такого уровня, при котором возникнет проблема свободного мышления: устройство будет считывать не только внутреннюю речь, но и невербализированное мышление, которое станет настолько прозрачным, насколько совершенным окажется язык для оформления мыслей; достаточно будет записать суточный поток сознания в доступной вербальной форме, чтобы удостовериться в нищете языка для нужд мышления; моделирование языкового воображения приведёт к тому, что язык будет признан единственным средством выражения мышления, несмотря на то, что языковое мышление отнюдь не тавтологично неязыковому; словесное управление техникой откроет возможность для киборгизации внутренней речи, которая будет настроена на логику естественного языка). Частичное понимание природы «изначального опоздания» при формулировке общего утверждения о том, что в языке действует соответствующий принцип, которое не отменяет сам феномен). И. Кант о феномене эпштейнизма: «Несмотря на большое богатство нашего языка, мыслящий человек нередко затрудняется найти термин, точно соответствующий его понятию, и потому этот термин не может сделаться действительно понятным не только другим, но даже и ему самому. Изобретать новые слова – значит притязать на законодательство в языке, что редко увенчивается успехом»38. Антиязыковая подоплёка «изначального опоздания», которое бы отставало от собственной автореферентности, может быть сведена к редукции языка бытия для вопрошания о бытии: поскольку чтойность вопрошания о бытии неформализируема (Богатов), постольку о бытии следует вопрошать на антиязыке, овладение которым потребует развития телепатических способностей, сопоставимых по утопичности с феноменологией, но гораздо метафизичных по мотивам (то, что не может быть воантиязыковлено, существует неонтологическим модусом, то есть по ту сторону онтологии присутствия/отсутствия: онтологические клише наподобие тавтологии признаны устаревшими в соответствии с онтологической нетранспарентностью, согласно которой существование больше не зависит от номинативного долженствования, а потому относительно некоторой онтологии; если вещь характеризуется неноминабельностью, её статус не является традиционно онтологическим – присутствующим или отсутствующим; нелингвоцентричная онтология, или патология, учреждается посредством антиязыка для нужд фундаментальной дескрипции (не)бытия, невозможной в пределах естественного языка). Онтологическая синхронизация – это совпадение возникновения вещи и её имени, одномоментность передачи погрешности между означаемым и означающим в самом широком семиотическом смысле; синонимизация плана содержания с планом выражения без темпорального посредничества, стремящаяся к абсолютным показателям. Если физическая константность не в состоянии обеспечить онтологическую синхронизацию, приходится рассчитывать на косинхронизацию онтологии и физики, исключением которой всегда является патология – область, лежащая по ту сторону обеих. Онлайнизация речи – это отождествление внутренней и внешней речи при ментальном выбалтывании, компенсирующее «изначальное опоздание» путём обнажения тайны индивидуального мышления, которое нарушает баланс между свободой мысли и свободой слова в пользу первой. Выбалтывание мыслительного потока, нередко выдающегося за самообман, приводит к тому, что человек обнаруживает спонтанность собственного мышления, которое вопреки Налимову искажается в модусе овнешнения.
24
Ментальный эксгибиционизм. Вербально–когитальный поток сознания, вынесенный на поверку вовне, может лишиться тех оптимальных условий внутреннего опыта, которые способствовали проявлению свободы мысли. Мышление вслух в отличие от мышления про себя может характеризоваться ещё большей степенью «изначального опоздания», компенсируя восприятие субъекта содержание собственного мышления при интровертивной (про себя) и экстравертивной (вслух) коммуникации. Автокоммуникация (как вслух, так и про себя) – это общение с самим собой, содержанием которого является ментальная жизнь субъекта; возможно, что при автокоммуникации степень «изначального опоздании» несколько ниже, чем при обычной коммуникации (как вслух, так и про себя), содержанием которой является нементальная жизнь субъекта (например, арифметические вычисления). Чтение чужих мыслей, минуя «изначальное опоздание», возможно при условии отсутствия следов «изначального опоздания» у проницательного читателя, который в свою очередь не опасается быть прочитан феноменологическим критиком; ментальный эксгибиционизм характеризует самых отчаянных солипсистов, вынужденных обнажаться перед собой, чтобы избежать самоотождествления, то есть неравенства между внутренним и внешним опытом, приоритет одного из которых рискует оказаться непреложным. Выговаривание внутренней речи является актом неразличения механизмов вербализации и мышления, спрятать которые стремятся те, кто стыдится собственной самости – мышления, зависящего от языка больше, чем языка – от мышления39. Считается, что вербальная коммуникация составляет всего лишь 25% (а то и того меньше) от общего количества информации, получаемой человеком с помощью других – невербальных – каналов восприятия, например, зрения, однако если учесть тесную связь зрения и речи, то становится очевидным, что невербальный процент воспринимаемой информации – потенциально–вербален, то есть может быть означен, представляя собой удачную аналогию с языка бытия: «Но лобные доли человека в свою очередь – слуга речи. Если некоторые участки коры мозга ведают принятием, слушанием или моторикой речеговорения, то не в этом только специфика наших больших полушарий, а и в посредничающей роли лобных долей между этими речевыми пунктами и всей остальной работой нервной системы, в том числе активным зрительным восприятием: слова, инструкции преобразуются лобными долями в нервнопсихические возбуждения и торможения, программы и задачи. Человеческое зрение в конечном счёте и управляется преимущественно не движением объекта (или перемещением организма), а поиском и извлечением информации с помощью переднего глазодвигательного центра, находящегося под влиянием лобных долей, которые сами находятся под влиянием речи. «Мы воспринимаем не геометрические формы, а образы вещей, известных нам из нашего прошлого опыта. Это значит, что из всей массы раздражителей, действующих на нас, мы отбираем те признаки, которые играют ведущую роль в выделении функции вещей, а эти признаки иногда носят не зрительный характер, мы обозначаем вещи названиями, и это участие речи в восприятии придаёт ему обобщённый, категориальный характер». К последним словам необходимо добавить только ту поправку, что в восприятии принимают участие не только слова обобщающего, категориального характера, но и обратные, индивидуализирующие объект слова, в частности имена собственные и их замены» (Поршнев)40. Степень «изначального опоздания» при гипнозе: «Классические опыты К.И. Платонова, А.О. Долина и других доказали, что слово в гипнозе может воздействовать на изменения состава крови и другие биохимические сдвиги в организме, а посредством установления условнорефлекторных связей словом можно воздействовать чуть ли не на любые физиологические процессы – не только на те, которые прямо могут быть вербализованы (обозначены словом), но и на все, с которыми можно к словесному воздействию подключить цепную косвенную связь, хоть они прямо и не осознаны, не обозначены своим именем. В принципе слово властно почти над всеми реакциями организма, пусть мы ещё не всегда умеем это проследить. Это верно в отношении и самых «духовных» и самых «материальных» актов. "…Анализ образования условных рефлексов у человека, механизмов двигательных реакций, особенностей ЭЭГ и характеристик чувствительности анализаторных систем показывает, что решительно все стороны мозговой деятельности человека пронизаны вмешательством второсигнальных управляющих импульсов"» (Поршнев)41.
25
А подсудимые кто?.. М.А. Богатов об «изначальном опоздании»: «Использование, таким образом, есть единственная стратегия любой онтологии в той мере, в какой бытие, учением о которой она является (должна являться?) – это бытие, раскрываемое в качестве как – бытия. Соответственно вопрос о бытии может явить нам свою сущность (чтойность), то есть вопросительность вопроса, лишь будучи использованным, то есть отвеченным. Но даже здесь, при таковом предполагаемом единственным образом раскрытии его сущности, мы будем иметь дело с последней лишь после использования вопроса. С другой стороны, поскольку сама мирность, конституируемая в качестве использования–употребления (Brauch) – есть лишь постоянно возобновляемая отсрочка от что – бытия, то мы имеем дело с некоторой парадоксальной формой «всегда – уже – ещё – не», которая есть не что иное, как самое фундаментальное онтологическое содержание хайдеггеровской версии τò χρεών.
Мир изначально предоставляет нам такое опоздание, которым мы можем пользоваться; здесь одновременно и «всегда–уже» (как усреднённая понятность), и «ещё–не» (как не доведённая до срока отсрочка); но само такое предоставление – это и есть употребление. Хайдеггер особо обращает внимание на то обстоятельство, что единственно возможная сущность как сущность– используемая, единственное что – бытие это как – бытие – заявляют о себе через обращение к тому, что было (чем, помимо прочего, он дополнительно конституирует усреднённую понятность бытия): "Обходиться (brauchen) прежде всего означает: нечто оставлять в том, что оно есть и как оно есть. Такое оставление – так – как – есть (Gebrauchte) стремится из самого себя к тому, чтобы взятое в обхождение обходительно поддерживалось в своей сущности, причём мы каждый раз соответствуем требованиям, которые предъявляет из самого себя взятое в обхождение"»42. «Изначальное опоздание» предохраняет от герменевтической тотальности, лежащей по обе стороны бессмыслицы – того, что может быть поименовано в самую последнюю очередь накануне деноминации всех имён (отчуждение слова из языка предполагает стирание всех следов, оставленных им в своём судьбоносном различании, то есть всех контекстов, в которых оно было употреблено).

