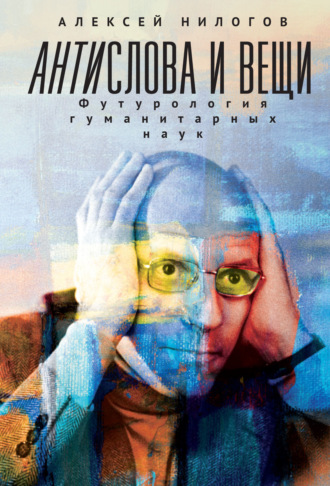
Полная версия
Антислова и вещи. Футурология гуманитарных наук
84
Деррида Ж. Диссеминация / Пер. с франц. Д.Ю. Кралечкина. – Екатеринбург: У–Фактория, 2007. – 608 с. – (Серия «Philosophy».) – С. 371.
85
Там же. С. 459.
86
Деррида Ж. Диссеминация / Пер. с франц. Д.Ю. Кралечкина. – Екатеринбург: У–Фактория, 2007. – 608 с. – (Серия «Philosophy».) – С. 11–12.
87
Там же. С. 381.
88
Ср.: Ж. Деррида: «Итак, оппозиция mnémè и hypomnésis должна управлять смыслом письма. Скоро нам станет ясно, что эта оппозиция образует систему вместе со всеми важнейшими структурными оппозициями платонизма. Следовательно, на границе этих двух понятий разыгрывается не что иное, как главное решение философии, то самое решение, посредством которого она учреждается, поддерживается и заключает в себя противоположное ей основание.
Граница между mnémè и hypomnésis, между памятью и её дополнением, оказывается более чем тонкой, не просто проницаемой. И с той и с другой стороны от этой границы речь идёт о повторении. Живая память повторяет присутствие eidos’a, а истина также является возможностью повторения в воспоминании. Истина открывает eidos или ontôs on, то есть то, что может быть сымитировано, воспроизведено, повторено в своём тождестве. Но в анамнезийном движении истины то, что повторяется, должно в повторении представляться в собственном виде, как то, чем оно является. Истинное повторяется, оно есть повторение в повторении, представленное, присутствующее в представлении. Оно не есть повторяющее повторения, означающее означивания. Истинное – это присутствие означаемого eidos’a.
Так же как диалектика, развёртывание анамнеза, так и софистика, развёртывание гипомнеза, предполагает возможность повторения. Но на этот раз оно оказывается на другой стороне, на другой поверхности, если так можно сказать, повторения. И означивания. Повторяется именно повторяющее, подражающее, означающее, представляющее, при случае – в отсутствие самой вещи, которую они, как кажется, повторяют, причём без психического или мнезийного одушевления, без живого напряжения диалектики. Итак, письмо должно оказаться данной означающему возможностью повторять только самого себя, машинально, без души, которая живёт, чтобы поддерживать его и опекать его в его повторении, то есть повторять так, что истина уже нигде не представляется» (Деррида Ж. Диссеминация / Пер. с франц. Д.Ю. Кралечкина. – Екатеринбург: У–Фактория, 2007. – 608 с. – (Серия «Philosophy».) – С. 139–140).
89
Там же. С. 164–165.
90
Ср.: М. Хайдеггер: «То, что сегодня, например, в спорте исчисляют десятыми, а в современной физике миллионными секунды, вовсе не означает, что мы посредством этого точнее ухватываем и таким образом настигаем время, но, напротив, такое исчисление есть вернейший путь потерять существенное время, то есть «иметь» всё меньше времени. Если продумать точнее: причиной растущей потери времени было не это исчисление времени, но это исчисление времени началось в тот момент, когда человек вдруг пришёл в беспокойство, то у него уже нет времени. Этот момент есть начало Нового времени» (Хайдеггер М. Что зовётся мышлением? / Пер. с нем. Э. Сагетдинова. – М., 2006. – 320 с. – С. 83)
91
Деррида Ж. Диссеминация / Пер. с франц. Д.Ю. Кралечкина. – Екатеринбург: У–Фактория, 2007. – 608 с. – (Серия «Philosophy».) – С. 502.
92
Ср.: М. Хайдеггер: «Когда мы непосредственно сказанное слушаем так же непосредственно, то мы не слышим при этом ближайшим образом ни слов слóва как просто слова, ни тем более слов как просто звуки. С тем чтобы мы услышали чистый звук голого звукосочетания, мы должны до этого каким–то образом себя изъять из всякого понимания или непонимания сказанного. Мы должны от всего этого отвлечься, абстрагироваться, чтобы из этого сказанного вытянуть, снять (heraus– und abziehen) с него, исключительно только сам звучащий звук, чтобы мы смогли воспринять акустически нашим ухом это таким образом снятое и именно само по себе. Звук, который в поле восприятия того мнимого «ближайшим образом» считается непосредственно данным, есть абстрагированный образ, который при слушании сказанного не воспринимается никогда ни сам по себе, ни ближайшим образом.
Мнимо чисто чувственное в звучании слова, представленное как голый звук, есть абстракция. Голое звукосочетание ни в коем случае не есть непосредственно данное в звучании слова. Звук всякий раз лишь выхватывается через опосредование, через то почти неестественное отвлечение (Absehen). Даже там, где мы слышим сказанное какого–либо языка, который для нас совершенно чужой, мы никоим образом не слышим голые звукосочетания как только чувственно данные звуки, но мы слышим непонятные слова слóва. Ведь между непонятным словом и акустически абстрактно выхваченным голым звуком лежит пропасть сущностного различия» (Хайдеггер М. Что зовётся мышлением? / Пер. с нем. Э. Сагетдинова. – М., 2006. – 320 с. – С. 154–155).
93
Ср.: М. Хайдеггер: «Данное для мысли отворачивается от человека. Оно оттягивается, ускользает (entzieht) от него. Однако, как мы можем вообще знать о том, что изначально оттягивается и ускользает, пусть даже и самую малую малость? Или хотя бы поименовать его? То, что оттягивается и ускользает, отказывает в прибытии. И всё же самооттягивание не есть ничто. Оттягивание и ускользание – это событие. То, что оттягивается и ускользает, может наступать на человека и требовать его даже существеннее, чем любое присутствующее, которое встречает и задевает человека. Эту задетость действительным охотно принимают за то, что составляет действительность действительного. Однако задетость действительным как раз может отрезать человека от того, что на него наступает определённо загадочным образом, а именно – отступая т человека, оттягиваясь от него. Событие оттягивания может быть самым настоящим из всего настоятельно присутствующего и тем самым бесконечно превосходить актуальность всего актуального» (Хайдеггер М. Что зовётся мышлением? / Пер. с нем. Э. Сагетдинова. – М., 2006. – 320 с. – С. 40).
94
Тарасенко В.В. Фрактальная семиотика: «слепые пятна», перипетии и узнавания / Закл. ст. Ю.С. Степанова. – М., 2009. – 232 с. – С. 155.
95
Гиренок Ф.И. О смысле жизни / Литературная газета. – № 10. —14.03.2012. URL: https://lgz.ru/article/N10 – – 6361 – – – 2012 – 03 – 14 – /O – s m%D1%8Bsl%D0%B5–zhizni18546/?sphrase_id=2569907.
96
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. – М.: «Мысль», 1974. – 452 с. – С. 213.
97
Ср.: В.И. Мартынов: «Рассуждая о формировании внешней и внутренней речи при переходе от палеолита к мезолиту в своей книге «Психология первобытного и традиционного искусства», П. Кузенков пишет следующее: «Следует обратить особое внимание на указательный жест – единственный из всех жестов, вероятно, не следующий за словом, а предшествующий ему. Сочетание же внешней речи с указательными жестами, «выхватывающими» из зрительного поля обособленные объекты, говорит о том, что первоначальные «слова» властно требовали зрительного подкрепления. Применительно к палеолиту из семантического треугольника, образованного «предметом», «звуковой формой слова» и «значением слова», следует убрать одну вершину – «значение слова», то есть понятие. Получившаяся прямая, соединяющая точки «предмет» и «звуковая форма слова», наглядно показывает, в чём состоит разница между современным и первобытным мышлением. Последнее оперировало не понятиями, но либо самими предметами, либо их внешними копиями–двойниками – изображениями. «Дискретное» воспроизведение объектов охоты на скалах свидетельствует о том, что к моменту появления первых рисунков люди уже перешли в фазу «расчленения» реальности, к воспроизведению единичных объектов, причём изображения играли в нём очень важную, если не ключевую роль». Таким образом, если человек начинается со слова, то слово начинается с указательного жеста, направленного на некий визуальный объект. Слово опосредует, означивает и упорядочивает реальность, превращая «реальность вообще» в «реальность для себя» – в «человеческую реальность». В общении с реальностью оно становится первичным, заставляя нас забыть о лежащем в его основе указывающем визуальном жесте, и именно это забвение позволяет говорить о том, что «в начале было слово». Вопрос заключается в том, насколько основательно это забвение и сколь долго оно может продолжаться» (Мартынов В.И. Время Алисы. – М.: Издательский дом «Классика–XXI», 2010. – 256 с. – С. 13–14).
98
Гальперин П.Я. К вопросу о внутренней речи / Хрестоматия по педагогической психологии. Учебное пособие для студентов / Сост. и вступ. очерки А.И. Красило и А.П. Новгородцевой. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 416 с. – С. 23–31. – С. 25.
99
Гальперин П.Я. К вопросу о внутренней речи / Хрестоматия по педагогической психологии. Учебное пособие для студентов / Сост. и вступ. очерки А.И. Красило и А.П. Новгородцевой. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 416 с. – С. 23–31. – С. 30.
Ср. также: П.Я. Гальперин: «Формирование умственного действия проходит пять этапов. Первый из них можно было бы назвать составлением как бы «проекта действия» – его ориентировочной основы, которой в дальнейшем ученик руководствуется при его выполнении. На втором этапе образуется материальная (или материализованная) форма этого действия – его первая реальная форма у данного ученика. На третьем этапе действие отрывается от вещей (или их материальных изображений) и переносится в план громкой, диалогической речи. На четвёртом этапе действие выполняется путём беззвучного проговаривания про себя, но с чётким словесно–понятийным его расчленением. Это действие в плане «внешней речи про себя» на следующем этапе становится автоматическим процессом и вследствие этого именно в своей речевой части уходит из сознания; речевой процесс становится скрытым и в полном смысле внутренним.
Таким образом, речь участвует на всех этапах формирования умственного действия, но по–разному. На первых двух этапах, «перед лицом вещей» и материального действия, она служит только системой указаний на материальную действительность. Впитав в себя опыт последней, речь на трёх дальнейших этапах становится единственной основой действия, выполняемого только в сознании. Однако и на каждом из них она образует, особый вид речи. Действие в плане «громкой речи без предметов» образуется под контролем другого человека и прежде всего как сообщение ему об этом действии. Для того, кто учится его выполнять, это означает формирование объективно–общественного сознания данного действия, отлитого в установленные формы научного языка, – формирование объективно–общественного мышления о действии. Таким образом, на первом собственно речевом этапе мышление и сообщение составляют неразделимые стороны единого процесса совместного теоретического действия. Но уже здесь психологическое ударение может быть перенесено то на одну, то на другую сторону, и соответственно этому формы речи меняются от речи–сообщения другому до речи–сообщения себе; в последнем случае целью становится развёрнутое изложение действия, идеальное восстановление его объективного содержания.
Затем это «действие в речи без предметов» начинают выполнять про себя, беззвучно; в результате получается «внешняя речь про себя». Она и здесь является сначала обращением к воображаемому собеседнику, однако по мере освоения действия в этой новой форме воображаемый контроль другого человека всё более отходит на задний план, а момент умственного преобразования исходного материала, то есть собственно мышление, всё более становится главенствующим. Как и на всех этапах, действие во «внешней речи про себя» осваивается, с разных сторон: на разном материале, в разном речевом выражении, с разной полнотой составляющих действие операций. Постепенно человек переходит ко всё более сокращённым формам действия и, наконец, к его наиболее сокращённой форме – к действию по формуле, когда от действия остаётся, собственно, только переход от исходных данных к результату, известному по прошлому опыту.
В таких условиях наступает естественная стереотипизация действия, а с нею и быстрая его автоматизация. Последняя в свою очередь ведёт к отодвиганию действия на периферию сознания, а далее и за его границы. Явно речевое мышление про себя становится скрыто речевым мышлением «в уме». Теперь результат его появляется как бы «сразу» и без видимой связи с речевым процессом (который остаётся за пределами сознания) «просто» как объект. Согласно глубокому указанию И.П. Павлова, течение автоматизированного процесса (динамического стереотипа) отражается в сознании в виде чувства. Это чувство имеет контрольное значение, и за речевым процессом, получившим указанную форму, как за всяким автоматизированным процессом, сохраняется контроль по чувству. По той же причине (отсутствие в сознании речевого процесса) это чувство нашей активности теперь относится непосредственно к его продукту, и воспринимается как идеальное действие в отношении его, как мысль о нём. В итоге всех этих изменений скрытое речевое действие представляется в самонаблюдении как "чистое мышление"» (Там же. С. 27–29).
«Внутренняя речь про себя» в отличие от «внешней речи про себя» может быть взята за субстрат антиязыка в том компромиссном случае, под которым понимается антиречь как автоматизированный нейросемантический поток: «Особый интерес представляет физиологическая сторона этого процесса. Автоматизация речевого действия означает образование его динамического стереотипа, а последний образование непосредственной связи между центральными звеньями речевого процесса, которые прежде были отделены работой исполнительных органов. До образования динамического стереотипа нужно было произнести слово, чтобы в сознании отчётливо выступило его значение, – теперь между звуковым образом слова и его значением образуется прямая связь, возбуждение непосредственно переходит от нервного пункта, связанного со звуковым образом слова, к нервному пункту, связанному с его значением, минуя обходный путь через речедвигательную периферию. На это сокращение физиологического процесса обращает особое внимание П.К. Анохин. Очевидно, в таком случае центральный речевой процесс может и не сопровождаться изменениями речедвигательных органов.
Так свойства последней формы умственного действия объясняют те особенности скрыторечевого мышления, которые вызывают столько недоразумений в понимании мышления и речи, когда они рассматриваются без учёта их происхождения как готовые наличные явления. Процесс автоматизации не сразу захватывает весь состав речевого действия, и даже потом, когда этот процесс закончился, действие происходит описанным способом лишь при условии, что его применение к новой задаче не встречает препятствий. Если же они возникают, то ориентировочный рефлекс, внимание переключаются на затруднение и это вызывает на данном участке переход действия к более простому и раннему уровню (в нашем случае – к неавтоматизированному выполнению «во внешней речи про себя»). Этот факт, давно известный в психологии, с психофизиологической стороны хорошо объяснён А.Н. Леонтьевым как результат растормаживания прежде заторможенных участков вследствие отрицательной индукции из нового очага, соответствующего новому объекту внимания. Но так как это касается лишь отдельных участков более широкого процесса, то соответствующие им частицы «внешней речи про себя» появляются разрозненно и для наблюдателя представляются бессвязными речевыми фрагментами» (Гальперин П.Я. К вопросу о внутренней речи / Хрестоматия по педагогической психологии. Учебное пособие для студентов / Сост. и вступ. очерки А.И. Красило и А.П. Новгородцевой. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. – 416 с. – С. 23–31. – С. 29–30).
100
Там же. С. 23–31.
101
Ср.: «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привёл [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовёт их, и чтобы, как наречёт человек всякую душу живую, так и было имя ей.
И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, подобного ему» (Библия. Бытие. Глава 2. Стихи 19–20).
102
Ср.: А.Ю. Ашкеров: «Экспертократическая власть представляет собой стратегию систематического овеществления слов, которые становятся более весомыми, чем сами вещи. Деятельность экспертократа связана:
•во – первых, с приданием словам статуса вещей, которые даже более материальны, чем другие материальные объекты;
•во – вторых, с систематической и осознанной борьбой за слова, которые могут менять и отменять вещи;
•в – третьих, с помещением политики и всей человеческой жизнедеятельности в царство вербальности;
•в – четвёртых, с установлением круговой поруки слов, которые обретают вещественный статус лишь при условии строгого соотнесения друг с другом, но не с каким–либо референтом» (Ашкеров А.Ю. Экспертократия. Управление знаниями: производство и обращение информации в эпоху ультракапитализма. – М.: Издательство «Европа», 2009. —132 с. – (Серия «Политучёба».) – С. 35).
196
Pfeiffer R. Geschechte der klassischen Philologie. Von den Anf ngen bis zum Ende des Hellenismus. Hamburg, 1970. S. 315; Barwick K. Probleme der stoischen Sprachlehre und Rhetorik. Berlin, 1957. S. 60.
197
Gentinetta P. M. Zur Sprachbetrachtung bei den Sophisten und in der stoisch–helleninstischen Zeit. Winterhur, 1961. S. 111.
198
Под этим подразумевается теория архетипов. Но, что, биологичес кое понятие «образчиков поведения» также является «метафизиче ским»? Там же. С. 314–315, 318

