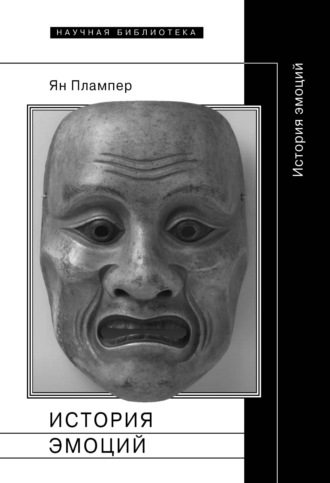
Полная версия
История эмоций
Но вернемся к самому Дюркгейму и его работам, посвященным религии. Для него религия представляла собой не только что-то функциональное, не только движение социальных субъектов в границах жестко установленных социальных правил, конституирующих сообщество. В его понимании религия означала также «кипение» (effervescence) в ритуале, то есть коллективный эмоциональный всплеск, и в этом трудно не увидеть след, ведущий к Гюставу Лебону, правому теоретику толпы, чьи идеи были инструментализированы теми, кто был еще правее его, – например, Муссолини. Мы уже сталкивались с Лебоном в первой главе: он сформулировал некоторые из важнейших категорий, использованных Люсьеном Февром329.
Фигурой номер один французской антропологии ХХ века был, бесспорно, Клод Леви-Стросс (1908–2009). С одной стороны он, через Марселя Мосса (1872–1950), испытал воздействие идей Дюркгейма, с другой стороны, во время своего пребывания в США с 1941 по 1948 год он через посредство Франца Боаса воспринял импульсы немецкой традиции, а кроме того, находился под влиянием Маркса и, особенно сильно, структурной лингвистики. Леви-Стросс тесно сотрудничал в Нью-Йорке с Романом Якобсоном и читал в те же годы Соссюра, «отца-основателя» структурализма.
Вернувшись во Францию, в конце 1950‐х годов Леви-Стросс занялся изучением тотемизма и, в связи с этим, – взаимосвязью религии и эмоций. Социологи и антропологи разработали несколько теорий религии, основанных на отношении «первобытных» людей к тотему – знаку, обычно имевшему вид животного. Так, по мнению Дюркгейма, тотем австралийских аборигенов свидетельствовал о том, что религиозная жизнь всегда связана с сообществом, то есть что ей присущ интегративный, гомогенизирующий элемент330. Леви-Стросс же считал, что использование тотемов не указывает на «иное» мышление, а представляет собой всего лишь выдающееся когнитивное достижение в среде, бедной абстракциями. Все важные авторы, писавшие о тотемизме, – Эмиль Дюркгейм, Бронислав Малиновский, Эдвард Эванс-Причард, Альфред Рэдклифф-Браун и Альфред Крёбер – по словам Леви-Стросса, возводили тотем не к когнитивным, а, наоборот, к эмоциональным истокам и тем самым капитулировали перед задачей научного его объяснения:
Поскольку аффективность – это наименее ясная сторона человека, к ней постоянно пытались прибегнуть как к объяснению, забывая при этом, что нельзя ничего объяснить явлением, которое само не поддается объяснению. Данность не является первичной, оттого что она непостижима331.
В отличие от Дюркгейма, который утверждал, что люди рисовали анималистические тотемы под влиянием чувства, то есть чтобы инстинктивно соединиться с сообществом мертвых – своих предков332, Леви-Стросс, выступая против этой «аффективной теории сакрального», заявлял:
Действительно, импульсы и эмоции ничего не объясняют, они всегда проистекают: или из мощи тела, или из немощности духа. В обоих случаях это следствие; они никогда не являются причиной333.
Таким образом, в том, что касалось эмоций, Леви-Стросс был материалистом и в таком качестве продолжал долгую традицию экспериментальной психологии. В рамках данной традиции наиболее внятную теорию разработали, как будет показано в третьей главе, Карл Ланге (1834–1900) и Уильям Джеймс (1842–1910), которые утверждали, что эмоции не являются чем-то, существующим внутри тела: телесное выражение само по себе и есть эмоция. Впоследствии приверженцы социального конструктивизма по-разному интерпретировали процитированный выше пассаж об «импульсах и эмоциях» как следствиях, а не причинах. Одни сочли Леви-Стросса аристотелианцем, создавшим пространство для оценки или интенционализма334; другие, решив, что он сводит эмоцию к телесным движениям, сочли его сторонником Сильвана Томкинса (1911–1991) – психолога, ненавидимого всеми социал-конструктивистами, духовного отца Пола Экмана335.
В Великобритании влияние леви-строссовского структурализма в антропологии стало заметно лишь в 1960–1970‐е годы, прежде всего в работах Виктора Тёрнера (1920–1983). А до этого, в начале ХХ века, на родине социальной и культурной антропологии важнейшей фигурой был Бронислав Малиновский (1884–1942), который, проведя несколько лет (1914–1918) в Новой Гвинее, заложил основы современной полевой работы, в том числе – метода «включенного наблюдения», предусматривавшего непременное овладение языками изучаемых народов. Хотя сам Малиновский считал, что его занимали только отношения родства, его дневник красноречиво свидетельствует о том, какие чувства испытывают антропологи во время полевой работы336. Уже в Австралии он чувствовал
сильный страх перед тропиками; ужас перед жарой и духотой – своего рода паническую боязнь испытать жару, такую же ужасную, как в прошлом июне и июле. […] Я был довольно подавлен, боялся, что стоящая передо мной задача мне не по плечу. […] В субботу, 12 сентября [1914 г.], прибытие в Новую Гвинею. […] Я чувствовал себя очень усталым и опустошенным, так что мое первое впечатление было довольно расплывчатым. […] 31 октября [1914 г.]. […] Потом, поскольку не было ни танца, ни собрания, я по пляжу пошел в Орубо. Восхитительно. Я впервые увидел растительность в лунном свете. Так чуждо и экзотично. Экзотика внезапно прорывается сквозь пелену привычного. […] Пошел в буш. На мгновение я испугался. Пришлось взять себя в руки. Пробовал заглянуть в свое сердце. «Как выглядит моя внутренняя жизнь?» Нет причин быть довольным собой337.
Дневник Малиновского – еще и основополагающий документ саморефлексии исследователей антропологии эмоций. Впоследствии антропологи даже стали считать, что наблюдение за своими собственными чувствами – важнейший элемент сбора «данных», заключающегося в провоцировании тех или иных эмоций у информантов, потому что чувства наблюдаемых и наблюдающих постоянно пребывают в диалоге друг с другом (об этом см. ниже, где пойдет речь о Джин Бриггс).
Еще один пионер британской социальной антропологии – Уильям Х. Риверс (1864–1922), который путешествовал и занимался этнографическими исследованиями до Первой мировой войны, а после ее начала расширил свои медицинские интересы и, став психиатром, работал с солдатами, страдавшими тем, что в Англии тогда называли «shell shock», в Германии – «военной трясучей», а сегодня назвали бы посттравматическим стрессовым расстройством. История Риверса в 1991–1995 годах была увековечена в трилогии Пэт Баркер «Регенерация». Переписка Риверса с Зигфридом Сассуном и другими знаменитыми пациентами-литераторами, которую он вел, работая в психиатрическом военном госпитале Крейглокэрт в Шотландии, стала одним из ключевых свидетельств о Первой мировой войне. В какой мере полевые исследования Риверса в Папуа – Новой Гвинее повлияли на его концепцию травмы и ее лечения, а главное – на лежащую в ее основе концепцию страха, еще только предстоит установить338.
В Великобритании работал и ученик Риверса Рэдклифф-Браун (1881–1955), который позже определил «чувство» (sentiment) как «организованную систему эмоциональных тенденций, сосредоточенных на каком-либо объекте». Он тоже считал, что «существование общества зависит от наличия в сознании его членов определенных чувств (sentiments), которыми поведение индивида регулируется в соответствии с потребностями общества» и что «указанные чувства (sentiments) у индивида […] не являются врожденными, а развиваются в нем под воздействием общества»339. Рэдклифф-Браун, который был дюркгеймианцем, преподавал в США в 1931–1937 годах. Таким образом, в то время как сама германская этнология утратила свою значимость, влияние идей Бастиана на американскую антропологию – через Боаса, Рэдклифф-Брауна и Дюркгейма – было весьма значительным.
Через научного «сына» Бастиана – Франца Боаса – линию этого влияния можно проследить и до его «внучки» Рут Бенедикт (1887–1948), которая открыла целую эпоху, опубликовав сразу после разгрома Японии в 1945 году книгу «Хризантема и меч», представлявшую этнопсихологический групповой портрет целой нации340. Бенедикт не только популяризировала различение между «культурами стыда», такими как японская, и «культурами вины», такими как американская: прежде всего она анализировала японские представления о чувствах, управлявшие социальной жизнью, и сравнивала их с аналогичными представлениями в США. Например, в Японии надо всем царит «он» – это смесь «любви» и «уважения», подразумевающая всегда также обязанность и пребывание «в долгу перед кем-то»: новорожденный ребенок на всю жизнь в долгу перед своими родителями; последняя сигарета, которую пилот-камикадзе перед вылетом получает от офицера, напоминает ему о том, что он в неоплатном долгу перед императором. «Любовь, доброта, милосердие, которые мы ценим ровно настолько, насколько они свободны, в Японии непременно должны иметь свои путы»341, – писала американка Бенедикт. В главе «Круг человеческих чувств» исследовательница дала описание японских представлений о пяти телесных ощущениях и практик, связанных с ними342.
Маргарет Мид (1901–1978), которая училась у Рут Бенедикт в Колумбийском университете, стала, так сказать, «правнучкой» Адольфа Бастиана343. Значение Мид для американской антропологии и вообще для истории культуры ХХ века в США едва ли можно переоценить344. После своей полевой работы на Самоа в 1925 и 1926 годах она стала сторонницей радикального культурного релятивизма, который впоследствии способствовал революции в американском образовании и в межрасовых отношениях. А то, как она изображала в своих работах полинезийцев, особенно женщин, подготовило почву для сексуальной революции. Важную роль всегда играла в этом и эмоциональная составляющая. Как отмечала Мид, для полинезийцев было характерно
необычное отношение к выражению эмоций. Выражения эмоций делятся на «имеющие причину» и «беспричинные». Про человека эмоционального, легко расстраивающегося, подверженного перепадам настроения, говорят, что он смеется без причины, плачет без причины, гневается и задирается без причины. При этом выражение «сильно злиться без причины» не подразумевает вспыльчивости – на нее указывает выражение «быстро злиться»; не подразумевает оно и несоразмерности реакции на легитимный стимул. Оно буквально означает злиться без причины, или свободно – это эмоциональное состояние без какого бы то ни было видимого стимула345.
И вообще, подчеркивала исследовательница, «самоанцы предпочитают золотую середину, умеренную дозу чувства»346. Более открыто, чем прочие антропологи, Мид, описывая другие культуры, тем самым всегда еще и предлагала американскому обществу взглянуть на само себя. Например, она указывала на то, что за «специализацию любви», характерную для американской нуклеарной семьи, приходится платить высокую цену, потому что «в более крупном семейном сообществе, в котором есть несколько взрослых мужчин и женщин, ребенок, как представляется, застрахован от возникновения таких уродующих установок, которые получили название „эдипова комплекса“, „комплекса Электры“ и так далее»347. Впоследствии многие антропологи пошли по стопам Мид – и это стало одной из причин, по которым такое множество работ по антропологии эмоций основано на материале, собранном в культурах южных морей, а не, например, в Африке, Южной Америке или среди североамериканских индейцев. В разработке концепций такого специалиста по психологии эмоций, как Пол Экман, о котором будет идти речь в третьей главе, исследования Мид тоже сыграли важную роль.
Начиная с 1960‐х годов в американской антропологии возникло новое, герменевтическое течение, связанное с именами Хилдред Гирц (*1929) и Клиффорда Гирца (1926–2006). В нашем распоряжении есть всего несколько фраз из наследия Клиффорда Гирца, посвященных эмоциям, как, например: «Культурными артефактами в человеке являются не только идеи, но и эмоции». Или: «Чтобы принимать решения, мы должны знать, что мы чувствуем по поводу тех или иных вещей, а для того чтобы знать, что мы чувствуем по их поводу, нам нужны публичные образы чувствования, которые нам могут дать только ритуал, миф и искусство»348. Хотя – особенно при описании ритуализованного характера выражения чувств – очень часто апеллируют к Клиффорду Гирцу349, более активно занималась эмоциями Хилдред, его первая жена. В 1950‐е годы она предполагала, что эмоции культурно универсальны и заложены в каждом человеке, однако в ходе социализации детей, протекающей по-разному в разных культурах, чувства подвергаются различным влияниям и формирующим воздействиям: одни в тех или иных культурах особенно культивируются, другие – скорее подавляются. Некоторые чрезмерно обобщающие утверждения Хилдред Гирц о «яванцах» (the Javanese) выглядят старомодными генерализациями даже на фоне того, что было принято в этнографических работах 1970‐х годов. Так, например, она утверждает, что «они не любят никакого сильного проявления эмоций, у них мало отношений настоящей дружбы или любви. Яванские женщины не такие тихие и сдержанные, как мужчины, они гораздо более экспрессивны»350. Об эдиповом комплексе она говорит как о части взросления любого молодого человека351. Но вместе с тем в работах Хилдред Гирц мы находим и проведенный на высоком уровне анализ представлений аборигенов об эмоциях. Все эти представления, прививаемые яванским детям в ходе воспитания, тем или иным образом связаны с уважением. Гирц пришла к выводу, что неотъемлемой составляющей эмоциональной социализации являются не только «практики воспитания детей как таковые», но и «представления (assumptions) общества о внутренней эмоциональной жизни»352.
Другие исследователи, которые сегодня считаются в антропологии классиками, усматривали еще меньше связи между чувствами и культурой. Эрнест Биглхоул (1906–1965) утверждал в 1937 году, что ритуалы жителей атолла Ифалик, расположенного в западной части Тихого океана, представляют собой предохранительный клапан для выхода эмоций, которые им обычно приходится подавлять в силу того, что эти люди живут очень тесно и приватная сфера у них отсутствует. По его мнению, «если бы не существовало определенных социально приемлемых средств выражения подавляемых эмоций, то общество рухнуло бы под бременем собственных неврозов»353. Мелфорд Спиро в 1952 году высказывал убеждение, что за страхом жителей Ифалика перед духами скрывалась их подавляемая агрессия, прямое выражение которой не допускалось их культурой, одержимой ценностью гармонии354. Позже появились более сложные психоаналитические объяснения – например, в работе Джорджа Морриса Карстерса 1967 года355. Как считают Латц и Уайт, все эти построения сводились к «теории двух слоев», согласно которой
универсальные эмоции залегают в глубинном слое аффекта. Примерно как во фрейдистской модели первичного и вторичного процесса, единообразные или универсальные аспекты эмоций по-разному «формируются», «фильтруются», «канализуются», «искажаются» или «маскируются» культурными «матрицами», «фильтрами», «линзами», «правилами демонстрации» или «защитными механизмами»356.
В 1970‐х годах культурные антропологи Рой Д’Андраде и Майкл Иган, проведя сравнительное исследование, пришли к выводу, что во всем мире у людей светлые и насыщенные цвета ассоциируются скорее с положительными эмоциями, а темные и блеклые цвета – скорее с отрицательными. Это явление, известное под названием «синестезия цвета и эмоции», свидетельствовало, по мнению исследователей, о существовании «врожденных реакций»357. И еще в 1978 году Родни Нидхэм (1923–2006) полагал, что «сравнительное изучение эмоций показывает, что в природе они не так дискретны и не так многочисленны, как те различные названия, которыми они обозначаются в разных языках»358.
4. Ранняя антропология эмоций – 1970‐е годы
Чувства инуитовИтак, мы закончили обзор классиков этнологии и их – сравнительно немногочисленных – высказываний о чувствах. Гораздо больше внимания обращала на эмоции Джин Л. Бриггс (1929–2016). Сегодня эту американскую исследовательницу принято считать основоположницей современной антропологии эмоций359.
Летом 1963 года Бриггс приехала к небольшой группе канадских инуитов, называющих себя «Utkuhikhalingmiut» (сокращенно «утку»), чтобы несколько лет прожить с ними и исследовать шаманистскую религию их племени. В те времена утку, которых насчитывалось всего два-три десятка человек, жили на территории, охватывавшей около 90 000 кв. км, примерно в 240 км от ближайшего населенного пункта, питаясь рыбой и мясом карибу – американских северных оленей. Восемь домохозяйств – три большие семьи – вели сезонно-кочевой образ жизни, летом живя в палатках, а в остальные месяцы года – в иглу. Бриггс была определена в семью предводителя группы Инуттиака и его жены Аллак, у которых были дочери Камик, Раигили и Саарак (четвертая дочь, Каяк, родилась в апреле 1964 года), а американская исследовательница, получившая имя Йиини, выступала в роли их приемной дочери, хотя на момент прибытия к утку ей было 34 года, то есть она была почти ровесницей Аллак и совсем немного уступала годами Инуттиаку, которому было около 40 лет.
Очень быстро выяснилось, что первоначальный проект – изучение шаманизма – реализовать не удастся, так как утку в 1930‐е годы перешли в англиканство и теперь считали, что их шаманы были «либо в аду, либо в бегах»360. Вместо прежней темы напрашивалась сама собой другая: эмоции. Вопрос об эмоциях вставал в двух плоскостях: во-первых, в плоскости этнографического наблюдения, а во-вторых – в плоскости непреднамеренного нарушения исследовательницей тех норм, которыми регулировались чувства у утку: Бриггс постепенно сместилась на маргинальные позиции в их обществе, время от времени превращалась в изгоя и в конце концов, решив раньше времени закончить свою полевую работу, уже с нетерпением ждала, когда за ней прилетит зафрахтованный канадским правительством самолет.
Со временем Бриггс поняла, что все поведение утку подчинялось одному правилу: никогда не следует злиться. Так и была озаглавлена написанная ею книга о жизни в семье Инуттиака: «Never in Anger» (1970). В понимании утку, стать взрослым значит обрести ihuma: это понятие можно приблизительно перевести как «разум». Выражается ihuma прежде всего в контроле эмоций. Только «ребенок, идиот, очень больной или сумасшедший человек» не обладает ihuma361. Маленькой Саарак родичи дозволяли проявлять гораздо больше эгоизма и ярости, чем позволено было бы в те годы американскому ребенку того же возраста. Именно потому, что маленькая девочка еще не обладала ihuma, семья и не ожидала от Саарак ничего другого, кроме как того, что она будет быстро приходить в ярость, легко пугаться и много кричать; при этом почти любое ее желание выполнялось. «Последовательность» как идеал воспитательной стратегии для родителей была утку неведома362.
В жизни Саарак фаза, предшествующая обретению ihuma, закончилась, когда ей было около трех лет и у нее появилась младшая сестра. При этом внимание ее матери перераспределилось не в одночасье, а медленнее, более щадяще и с большей терпимостью к «рецидивам», чем этого можно было бы в те годы ожидать в американской или европейской семье. Нагляднее всего это проявилось в конкуренции за материнское молоко, развернувшейся между Саарак, еще не отлученной от груди, и новорожденной Каяк. Бриггс, жившая в одном иглу со своей приемной семьей, описала, как Саарак впервые заметила, что у нее есть сестра:
[Саарак] давали выспаться, и когда она через некоторое время зашевелилась, Инуттиак ритмично потер ей спину, чтобы она снова заснула. Но его усилия были тщетны, и когда он увидел, что она по-настоящему проснулась, он указал ей на младенца. Я затаила дыхание. Но в первую минуту взрыва не последовало. Саарак щебетала и ворковала, глядя на младенца дружелюбно и с интересом. И только когда она увидела, что мать прикладывает ребенка к груди, разразилась буря – буря воплей и шлепков. Аллак, прикрыв меньшую дочь рукой, проговорила нежным голосом: «Не делай ей больно». И тут Саарак потребовала того, что было ее правом, а теперь оказалось под угрозой: чтобы ее покормили грудью. Я знала, что утку очень тактичны, но никогда не думала, что кризис может быть разрешен так мягко, как это произошло теперь. Аллак заговорила тоном, который я потом часто слышала в последующие несколько дней, – лживым, но сочувственным тоном отвращения. «Оно такое невкусное», – сказала она. И этот тон облек слова в ласковую защитную оболочку. Но Саарак продолжала кричать и колотить ладонью мать и ребенка. Тогда Аллак уступила, взяла встревоженную дочь в привычное убежище своей парки и покормила ее, хотя и недолго, одной грудью, в то время как другой кормила новорожденную. Я забыла проследить, оторвалась ли Саарак от груди добровольно или ее уговорили это сделать; в любом случае, чуть позже она снова завопила. На этот раз вмешался Инуттиак. «Тебя очень любят (naklik)», – успокаивал он дочь, но Саарак была слишком расстроена, чтобы прислушаться к его словам. Тогда Инуттиак сказал – громче и более грубо: «Иди спать! Ты совсем сонная!» И в конце концов она действительно докричалась до того, что уснула. Инуттиак смотрел на личико на подушке рядом с собой: на щеках еще видны были следы слез, маленькие темные косы были спутаны. «Бедняжка (naklik), – сказал он, – она все понимает и беспокоится (ujjiq)»363.
Свои попытки отучить Саарак от груди родители прерывали потом еще многократно, обнаруживая при этом больше терпения, чем можно было бы счесть приемлемым в том культурном круге, к которому принадлежала наблюдавшая это антрополог Бриггс. Почему? Потому что ihuma, как полагают утку, приходит к человеку самостоятельно, без участия родителей. То, что у маленькой Саарак еще не появилось ihuma, принималось с невозмутимостью.
Но наиболее доходчиво – и болезненно – значение контроля над эмоциями было преподано Бриггс не в наблюдениях за другими, а через ее собственные непреднамеренные нарушения эмоциональных норм. То, что произошло, не случилось внезапно и открыто, это был процесс постепенный, протекавший под влиянием тех трудностей, которые она испытывала в адаптации к арктическому холоду, под влиянием языкового барьера, затруднявшего коммуникацию, под влиянием ее ошибок в интерпретации поведения утку. «Оглядываясь назад, – писала впоследствии Бриггс, – мои отношения с утку можно разделить примерно на три фазы: сначала я была, с точки зрения утку, чужаком и диковинкой, потом – трудновоспитуемым ребенком, и наконец стала хроническим раздражающим фактором»364.
Во время первой фазы исследовательница еще жила в собственной палатке, которая очень быстро стала центром интереса всех утку. С утра до вечера они приходили к ней в гости, и Бриггс больше всего на свете мечтала хоть немного побыть в уединении, тогда как у инуитов, живущих в ледовой пустыне, одиночество считалось самым страшным наказанием. Кроме того, Бриггс столкнулась с такими языковыми и адаптационными проблемами, которые оказались ей не по плечу. Ей приходилось переспрашивать собеседников гораздо чаще, чем было принято среди утку, и еще до прихода зимы она очень страшилась холода, от которого у нее возникли обморожения на руках и на пальцах ног. Когда же Бриггс заметила, что утку не отрываются от своих обычных занятий с приходом гостей, она тоже перестала обращать внимание на постоянно приходивших в ее палатку посетителей; ей казалось, что утку восприняли это благосклонно, а на самом деле они увидели в этом нарушение норм, что способствовало впоследствии маргинализации «белой» (kapluna). Кроме того, Бриггс то и дело сердилась или плакала, и ей только казалось, что утку реагировали на эти ее эмоциональные всплески невозмутимо:
Как я позже обнаружила, я слишком легко успокоилась относительно последствий моей несдержанности. Когда мне удавалось взять себя в руки (иногда это бывало после того, как первый агрессивный импульс иссякал), если я рассказывала потом о случившемся весело и слышала, что другие смеются вместе со мной, или если мне казалось, что люди принимали те щедрые жесты, с помощью которых я пыталась рассеять холод, возникавший после моих неправильных поступков, я была убеждена, что никакого урона нанесено не было. Как неправа я была, я узнала только через год, когда, по возвращении в Йоа-Хейвен [ближайший населенный пункт. – Я. П.], Икаюктук рассказала мне, что утку обо мне сообщали в ту первую зиму365.
Ситуация обострилась зимой, когда температура опускалась до –50°С и Бриггс переселилась в иглу, где жила семья Инуттиака. Американке лишь частично удавалось вести себя как послушная приемная дочь. Ее возмущало поведение Инуттиака, которое казалось ей высокомерным, эгоистичным и патриархальным. Позже она писала: «Когда Инуттиак уезжал, я радовалась возможности отдохнуть от того, что представлялось мне его „властным эгоцентризмом“»366. То и дело ее интересы сталкивались с интересами Инуттиака – «например, когда он нарушал с трудом достигнутую температуру в иглу, при которой я могла печатать»367. Но и то, как он обращался с женой и детьми, ей тоже казалось невыносимым:
Он, казалось, безо всяких угрызений совести прерывал их занятия, а иногда даже и сон Аллак, чтобы приказать им сделать что-нибудь для него: заварить чай, приготовить еду, принести его трубку, помочь накормить собак, сбить сосульки со стен. Если в стене образовывалась дыра и снег начинал сыпаться на постель или если собака срывалась с цепи ночью, то выходить и исправлять повреждения всегда приходилось именно крепко спавшей Аллак, а не ее бодрствовавшему мужу368.

