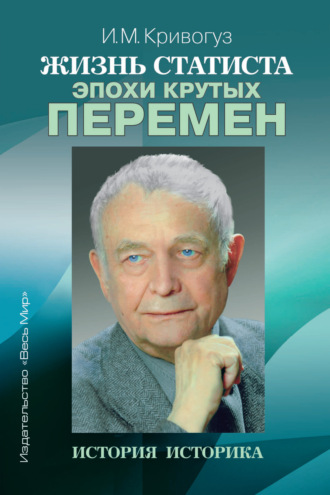
Полная версия
Жизнь статиста эпохи крутых перемен. История историка
С помощью сторожа-дворника родители до вечера втащили вещи в комнаты, и мы смогли поесть и отдохнуть. Еду стали готовить не на примусе, а на газовой плите, стоявшей в первой комнате, вода поступала из имевшегося там крана. Школьные туалеты на этаже рядом. Вечером включили электрические лампочки. Отапливалась квартира, как и вся школа, батареями с горячей водой. Такого у нас никогда не было: в нашем быту произошла революция! Это вдохновляло, и уже на следующий день родители пошли проводить уроки, а меня отвели в четвертый класс. Через несколько дней для Тани нашли приходящую няню-бабушку.
Школа была неполной средней – семилетней. В ней учились дети не только 69-го, но и соседних участков, на которых не было школ. Учительница и уроки, проводившиеся в классе на том же втором этаже, что и квартира, мне нравились. Трудностей в учебе не было, только почерк не удалось исправить, и он остался некрасивым на всю жизнь. Занятия шли своим чередом. По предметам четвертого класса получал пятерки, кроме четверок за письменный русский, пение и физкультуру.
Однажды весной случилось чрезвычайное происшествие. Когда на уроке вслух читали ранее прочитанный мною рассказ, очень захотелось имевшегося дома компота. Попросился выйти в туалет, а сам проскочил в нашу квартиру, где выпил кружку компота, и не спеша вернулся на урок. Но после всех уроков взволнованные учителя вызвали меня в учительскую. Они выясняли, кто же в мужской уборной не только использовал не по назначению кусок газеты с портретом Сталина, но и оставил его на видном месте. Мне пришлось сознаться, что я выходил пить компот, а в туалет даже не заходил. Идеологическую диверсию расследовали компетентные люди, но обнаружить виновника не удалось, и разговоры велели прекратить.
После уроков читал имевшиеся в школьной библиотеке очень разные книги: Серафимовича, Обручева, Де Костера и других. Пока не похолодало, с увлечением наблюдал за жизнью нескольких крупных муравейников среди зарослей дальнего угла школьного двора, куда никто не заглядывал. Деятельность муравьев была очень интересной и вполне соответствовала описанию в мамином томе Брема.
Мои интересы и круг занятий расширялись благодаря общению с приятелями. Прежде всего, подружился с Сергеем, сыном сторожа-дворника Судакова. Как позже узнал у родителей, Судаков был крестьянином из центральной России и с женой и двумя сыновьями бежал сюда от коллективизации. Жена работала в школе уборщицей. Они были трудолюбивыми и добросовестными. Их старший сын уже заканчивал нашу школу, а Сергей был старше меня на два года и учился со мной в одном классе. Мы с ним подружились, но дома его загружали работами по хозяйству и не одобряли наших игр как занятия «дармоедов».
Вместе с другими одноклассниками спускался в промытые бурными весенними ручьями глубокие овраги, где было множество мышей, лягушек и ужей, встречались гадюки. Катался на стальных тросах, обеспечивавших работу насосов на нефтяных скважинах, на их поднимавшихся и опускавшихся ящиках с балластом – булыжниками. Познакомился с близлежащим автоматическим центром, в котором мощный электродвигатель обеспечивал вращение сложной эксцентрической системы колес, ритмично натягивавших и отпускавших тросы, протянутые через косогоры и овраги к двум-трем десяткам насосов. Эта умная система, как узнал позже, была изобретена местным мастером и построена для возрождения добычи нефти в 20-х годах, когда индивидуальных двигателей для насосов не хватало. Ходил гонять мяч и играть в чапаевцев и челюскинцев к приятелям-одноклассникам в примыкавший к школе поселок.
Поселок состоял из десятка длинных кирпичных одноэтажных корпусов – примитивных прообразов ныне нам известных таунхаусов. В корпусах было электрическое освещение и центральное отопление, но не было канализации. Каждая двух- или трехкомнатная квартира имела отдельный вход, но кухни с газовыми плитами и водопроводом, а также уборные были общественными и стояли между корпусами. В поселке имелся магазин, в котором продовольствие, одежду и обувь продавали уже без карточек, но ассортимент оставался бедным. Наше привычное скромное питание подкреплялось сухими фруктами. А у части жителей поселка имелись куры, свиньи, козы и даже коровы. Некоторые продавали яйца, молоко, а иногда и мясо соседям, знакомым. Родители покупали у них, прежде всего у Судакова, молоко, а изредка яйца и мясо, которых не было в магазинах.
Всю живность хозяева держали в самодельных сарайчиках – катухах, выстроенных в стороне от жилья – на западной окраине плато. С ребятами ходил туда не только поглядеть на животных – зимой на снегу можно было найти следы волков. В голодные и холодные ночи их вой был слышен на фоне неумолкающего скрипа нефтяных насосов. Еще замечательнее было то, что от катухов в ясную погоду был виден почти весь главный Кавказский хребет с Казбеком и Эльбрусом. Именно там «как-то раз перед толпою соплеменных гор у Казбека с Шат-горою разгорелся спор» Величественная картина помнится мне до сих пор. Жаль, что ни тогда, ни позже не сфотографировал ее.
В поселке функционировали бесплатная общественная баня и Дом культуры. В Доме культуры выступали самодеятельные и заезжие артисты, демонстрировали кинофильмы, проводились торжественные собрания и пионерские слеты. Даже мне случилось декламировать стихи с его сцены. Запомнился яркий фильм «Веселые ребята».
Все здания были выстроены для рабочих дореволюционными владельцами промыслов, которых никто не вспоминал. Теперь в этом далеком уголке ощущался пульс жизни страны, и велась советская социализация населения, в том числе школьников.
Раз или два в месяц мы всей семьей отправлялись в город навещать Чернышевых. Они жили в двухкомнатной квартире в большом многоквартирном одноэтажном доме на углу главного рынка и улицы Р. Люксембург. В последний день пятидневки сразу после уроков по дороге и тропинкам мы проходили три километра к станции пригородной железной дороги Заградино. Садились в один из старых двухосных вагонов, и такой же старый паровоз минут за сорок доставлял состав на станцию Грознефтяная. Из нее мы выходили прямо на улицу Р. Люксембург, и, пройдя несколько кварталов, попадали к Чернышевым.
Нас ждали и вкусно кормили. Отмечались семейные праздники. Иногда взрослые отправлялись в театры, оставляя Таню и меня читать и укладываться спать. А во второй половине выходного дня обратным порядком мы возвращались домой. Но подниматься на холмы было труднее, особенно в сырую погоду. Местами была непролазная грязь, и Таню родителям приходилось нести на руках.
Чернышевы навестили нас на 69-м участке всего два раза. А однажды появился у нас Николай Чернышев с гитарой. Он приехал из Ростова в отпуск и намеревался пожить у нас неделю. Был в форме водника, весело представлялся: «Мы моряки с Дона-реки» и пел под гитару «По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там», о Мурке в кожаной тужурке и другие никогда не слышанные мною песни. Я был в восторге.
Через день он попросил меня показать дорогу к Дому культуры. Вечером меня с собой не взял, а пошел с гитарой и вернулся поздно. Следующим вечером он опять отправился туда, но скоро возвратился с синяками и разбитой гитарой. Николай не жаловался, но было ясно и досадно, что его не оценили и обошлись с ним некультурно. На следующий день, к моему огорчению, он уехал к Чернышевым.
Мне нравилось, что здесь осенью долго было тепло, зима оказалась короче и мягче, чем в Ново-Александровской, весна наступала раньше и была нежнее, а лето – долгим и очень жарким.
* * *Летом родителей перевели в другую школу, и мы переехали на 36-й участок. Это поселение было гораздо крупнее 69-го и располагалось ниже – на пологом склоне вблизи уже известной нам станции Заградино. Между ним и примыкавшими к нему поселками находились учреждения и основные магазины Старопромысловского района города, а также полная средняя школа, в которой теперь работали родители и мне предстояло учиться.
Семья получила двухкомнатную квартиру в одном из кирпичных примитивных таун-хаусов. В ней было электричество, батареи центрального отопления и радиоточка. Входили в нее через высокую открытую веранду, под которой имелась дверь в просторный подвал. В первой комнате был выгорожен угол для посуды и рукомойника, но без водопровода и канализации. Большие газовые плиты и водопровод имелись в двух общественных кухнях, стоявших перед корпусом. Там все жильцы 18-ти квартир готовили себе еду и стирали белье. Пониже за кухнями стоял общественный туалет, который даже в темноте легко было найти по запаху хлорки.
Еще ниже за параллельным корпусом и дорогой находился большой парк с аллеями. В нем преобладали акации, и в пору их цветения стоял крепкий головокружительный аромат, перебивавший запах нефтепродуктов. Там было здание клуба имени действовавшего в годы революции Пролетарского батальона – «Пролетбата». В здании имелись библиотека и кинотеатр.
Вокруг было много других корпусов и иных жилых зданий, электроподстанция, транспортное хозяйство с конюшнями, крупная мастерская со станками для ремонта всяких машин и пруд, наполненный нефтью. Справа от корпусов повыше на косогоре стояли ряды сараев с козами, свиньями и коровами.
Тропинки от нашего корпуса влево мимо пруда и другой группы домов вели к школе. В ее первых семи классах учились дети из соседних поселков, а в старших – со всех Старых промыслов. Большое кирпичное двухэтажное здание школы стояло на склоне холма над проходившей мимо дорогой, мощеной булыжником. Из-за угрозы оползней здание школы было стянуто стальными тросами. Слева к школе примыкал плац для построений и физподготовки. За ним находилась большая бесплатная общественная баня.
На 36-м и прилегавших к нему участках (особенно в низине у железной дороги) не имелось нефтяных вышек – скважины были исчерпаны и заброшены. Некоторые дороги замощены булыжниками, а поселения застроены зданиями разного типа. В двухэтажных зданиях располагались райком ВКП(б), райисполком, управление промыслами, поликлиника, типовой, как на 69-м участке, клуб.
Находившийся рядом поселок Нефтемайск состоял из выстроенных для служащих прежними владельцами промыслов двухэтажных коттеджей. Они были превращены в коммунальные квартиры. В кухнях имелись газовые плиты, но ванны, водопровод и канализация давно не действовали, и возрождать эту буржуазную роскошь никто не собирался – рядом с коттеджами были устроены водопроводные колонки и туалеты.
Другие поселки состояли из примитивных таун-хаусов и кирпичных бараков, но – все же с отдельными входами в каждую квартиру. У многих квартир под окнами были небольшие садики с двумя-тремя фруктовыми деревьями, кустами и грядками овощей.
Некоторые соседние крупные поселения – Старый поселок, Собачевка – были застроены только частными мазанками и саманными домиками. Отапливались они печками, а из удобств имели только электричество. Во дворах и хлевах блеяли овцы, мычали коровы, лаяли собаки, а над трубами домиков вился дым.
В поселках имелись магазины, торговавшие простейшими продовольственными товарами, одеждой и обувью. Хлеба, масла, сахара всегда не хватало, и поэтому продажа в одни руки была ограничена, некоторые виды продовольствия продавались по талонам, и обычно покупатели выстраивались в длинные очереди. Поодаль, у станции Заградино, по утрам возникал базарчик, где у местных жителей можно было купить молоко и простоквашу, яйца и курицу, а летом еще и всякую зелень, овощи и фрукты. За более серьезными покупками приходилось ездить на пригородном поезде в город. Такие условия существования для основной массы населения были нормой, которая после голода нам и многим другим казалась благополучием.
За пригородной железной дорогой, пролегавшей у подошвы Сунженского хребта, до параллельной гряды Терского хребта – на четыре-пять километров – простиралась долина. По ней извивалась почти пересыхавшая летом грязная река Нефтянка, где-то у города впадавшая в Сунжу.
В нескольких километрах от Заградино виднелись домики и сады станицы сунженских казаков Первомайской, которую чаще называли по-старому – Василевкой. Селяне работали на полях, виноградниках и бахчах своего колхоза. Туда вели проселок и тропинки, на которых никогда не было оживленного движения: станичники жили обособленно.
Правее возвышались трубы, водоохлаждающие пирамиды градирен и корпуса мощной ТЭЦ, снабжавшей электричеством не только Старые промыслы. Там же за кирпичной оградой находились одноэтажные корпуса большой Третьей совбольницы. Этот поселок называли Турбиной. От 36-го участка к нему протянулось оживленное шоссе, по которому всегда ехали машины и шли пешеходы. Дальше долину занимали поля и виноградники пригородного совхоза, а у самого города близ железнодорожной станции с загадочным для обывателей названием Катаяма располагался аэродром.
В предвоенные годы у меня постепенно сложилось представление о населении Старых промыслов да и всего Грозного. Город и промыслы выросли вокруг крепости и казачьей станицы за счет переселенцев из дальних мест, а не аборигенов. Основная масса населения была занята добычей и переработкой нефти, работой по производству и ремонту нефтяного и энергетического оборудования и на транспорте, часть служила в различных административных и хозяйственных учреждениях. Существенных социальных различий не было. Богатых и нищих не встречал. Но большинство жило очень скромно, многие – бедно. Прослойка служащих – инженеров, врачей, учителей, работников культуры и административных учреждений была малочисленной и обеспеченностью не выделялась.
Конфессиональные различия мне тоже были почти незаметны. Оставшаяся в городе единственная православная церковь мало кем посещалась. О мечетях или иных молельных домах ничего не слышал. Говорили только, что мусульмане молятся, отрешаясь от всего окружающего, по несколько раз в день там, где их застает час молитвы. Но я их за молитвой не видел.
Этническое разнообразие населения мною почти не замечалось и не осознавалось. Всюду преобладали русские. Заметны были армяне и разноплеменные дагестанцы. Совсем немного было евреев, греков, осетин и грузин. Жило несколько приехавших на нефтепромыслы и обрусевших немцев и шведов. Встречались китайцы и корейцы. Они ходили с корзинами или инструментами, продавали детские игрушки, скупали старье, точили ножи и ножницы, паяли чайники, вставляли стекла и т.п. Но вскоре исчезли. Говорили, что их выслали как японских шпионов.
Чеченцев на Старых промыслах, да и в городе – столице Чечено-Ингушетии – жило удивительно мало, а ингуши встречались совсем редко. Здесь чеченцы имели мазанки или саманные домики с катухами. Только немногие в результате политики коренизации – выдвижения лиц коренного населения – занимали некоторые руководящие посты и имели квартиры.
Чаще и больше всего чеченцев и ингушей можно было встретить на центральном базаре города, куда они из аулов привозили на продажу разнообразную сельскую продукцию. Нередко видел, как чеченец средних лет, в огромной кавказской папахе, какая бы ни было жара, в серых галифе и гимнастерке, в мягких сапогах, подпоясанный наборным поясом, с красивым кинжалом шествует по тротуару к базару. На четыре-пять шагов позади идут две-три женщины в черных мешковатых длинных платьях с платками, закрывающими почти все лицо. Они несут огромные мешки с овощами, фруктами, орехами и другой сельской продукцией. Это, говорили, его жена и ее «сестры» – младшие жены.
О жизни чеченцев и ингушей в аулах основная масса городского населения почти ничего не знала. Из горожан редко кто туда ездил. Конечно, всюду в аулах имелись органы советской власти. Через них партия добивалась изменений в жизни чеченцев и ингушей. Эти народности тогда не претендовали на гегемонию в республике и ее нефтяные богатства. При общности религии связи между аулами оставались слабыми, и рознь родовых общин затрудняла осознание национальной общности. Однако население аулов, вопреки советским законам, сохраняло и отстаивало свой соответствующий шариату традиционный образ жизни.
Ломая их уклад, органы администрации и НКВД расправлялись с «кулаками» и не признававшими никакой власти вооруженными абреками. Как узнал много позже, только в 1937–1938 гг. было репрессировано 3% жителей республики, большую часть которых расстреляли. Жители аулов отвечали массовыми волнениями и вооруженными выступлениями. Их подавляли, замалчивали и в городе о них были только неясные слухи.
В нашей школе учились дети почти всех живших в городе народностей. Чеченцев было только четверо – братья Ижаевы. Он жили в большом родительском доме в Собачевке. Говорили, что их отец имеет орден за заслуги в Гражданской войне и стада овец, которых пасут в горах родственники. Ходили братья в школу и из школы в папахах, следуя один за другим по старшинству. Были дисциплинированнее, чистоплотнее и аккуратнее большинства. Ими интересовались многие ребята, но они вели себя сдержанно. И никакой межэтнической неприязни, тем более розни среди учащихся не было. Но в старших классах продолжали учебу почти только русские. Наверное, в местных чеченских и ингушских семьях были и дочери, но их я не видел ни в школе, ни на улице.
* * *В формировании моего отношения к людям огромное значение имела семья и ее связи. Уклад семьи, как и большинства жителей старопромысловских поселков, был прост. Утром к исполнению по радио гимна – Интернационала – почти все, кто не болен, уже были на ногах, и ложились спать к концу радиовещания. Дети – Таня и я, не были исключением. У нас с нею из-за разницы в возрасте, кроме любви к чтению, было мало общих интересов, а ее встревание в мои самодеятельные занятия иногда вызывало конфликты. Получая шлепки и тумаки, родителям она не ябедничала.
Иногда Таню на неделю отвозили к Чернышевым, а вскоре стали ежедневно отводить в детский сад. Там в отношениях со сверстниками она сочетала стойкость с удивлявшими меня непротивлением злу и готовностью пострадать за правое дело. Когда в детсаде мальчик потребовал у нее игрушку, угрожая насыпать песок в ухо, она сказала: «Сыпь, но игрушку не отдам». Он насыпал, игрушку не получил, а ухо пришлось лечить. В 1939 г. Таня пошла в первый класс. Ее интересы расширились, она обзавелась подружками, и наши взаимоотношения улучшились.
С 1937 г. у нас жила Лена Кривогузова – двоюродная сестра, которая училась в старших классах. Нашего отца, как и мы, она называла папой, а маму – «мамой Соней». С нею у меня было полное взаимопонимание, и каждый занимался своими делами. Она выросла стройной, красивой и училась прилежно. Закончив десятилетку отличницей в 1940 г., поехала учиться в Харьковский медицинский институт.
Родители работали в школе в двух сменах. Обычно уходили туда утром и возвращались только к вечеру. Они влияли на нас не столько поучениями, сколько своим примером.
Мама тогда была еще молода – в 1940 г. ей исполнилось только 40 лет. У нее было миловидное загорелое лицо с карими глазами. Длинные темные волосы всегда заплетались и укалывались большим узлом, как у женщин на греческих амфорах. Никаких украшений и косметики. У нее была пара платьев. В 1937 г. к окончанию ею института на заказ сшили темный английский костюм. Затем вместо изношенного синего купили новое пальто. Во всякой одежде она была стройной и стремительной. Дома и в школе строго отчитывала нарушителей порядков, урезонивала, никогда не повышая голоса.
В школе мама стала организатором и заведующей кабинетом естествознания и химии, в котором имелось все необходимое для лабораторных работ учащихся. Она выписывала и читала несколько научных и популярных журналов по своим предметам, вникала в происходившие тогда научные дискуссии, объясняла их ученикам. Была восхищена новейшими достижениями химии, ее возможностями, стремилась продемонстрировать их учащимся. Рассказывала об открытиях Дарвина и Менделеева, исследованиях Вавилова, достижениях Мичурина и о Бербанке, выведшем грейпфруты. Любила и выращивала всюду – дома и в школе – разнообразные цветы, фикусы, пальмы и другие экзотические растения. Благодаря ее заботам у нас дома появились и проживали огромный кот, с которым играли мы с Таней, и ласковый коричневый сеттер – Искра. Соседу – буровому мастеру и заядлому охотнику Башлыкову родители позволяли брать Искру на охоту, где однажды она загадочно погибла. Говорили, будто охотник ее застрелил за непослушание. Отец с ним объяснялся, но мне ничего не сказал. Мама и я были очень огорчены.
В 1936 г. она стала одной из двух женщин, аттестованных в Грозном Наркомпросом преподавателями полной средней школы, о чем получила грамоту, подписанную наркомом. А в следующем году закончила Ставропольский пединститут. Ее приглашали туда в аспирантуру, но на новый переезд и даже временное уменьшение заработка семья не решилась. Родственники гордились ею. На вечеринке в честь ее успехов отец и Павел Михайлович спели ей величальную и «Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана». Она со слезами вспоминала то счастье будучи в возрасте 95 лет в 1995 г.
Мама вела домашнее хозяйство и по утрам, и по вечерам – до или после школы выполняла всю домашнюю работу: делала покупки, готовила, убирала, стирала. Если требовалось, бралась за любое дело: шила, вязала, лечила.
Вставая раньше всех, она бежала на базарчик за банкой свежей простокваши, а затем на общей кухне жарила оладьи и кипятила воду. Оладьи с простоквашей составляли наш обычный завтрак, завершавшийся выпивавшимся залпом стаканом чая, кофе с молоком или компота. Картофель стоил дороже и его мы ели мало, а яйца еще дороже и в нашем рационе вовсе были редкостью.
Раз в два-три дня мама успевала сварить кастрюлю обычно постного борща для обедов. Только осенью Судаков, с которым мы не теряли связи, продавал нам немного свинины или телятины. Кроме того, раз или два в три месяца она покупала по живой курице, разделывать помогали соседи. Только тогда борщи и овощи, макароны или каши были с мясом. Летом ели много зелени, овощей и фруктов, часть из них мама успевала консервировать или сушить. У соседей, имевших корову, утром покупала нам полуторалитровую бутыль молока, которую мы (в основном я) ежедневно опустошали.
Нас – детей – хозяйственными заданиями мама не загружала: только убери за собой да купи то или это. Дети обедали после возвращения из школы самостоятельно, разогревая приготовленную мамой еду на общей кухне, а родители – ближе к вечеру. Иногда я по своей инициативе подкреплялся луком с хлебом и подсолнечным маслом или поджаривал на этом масле помидоры с луком. Лучшего я не знал, и такое питание казалось мне прекрасным, хотя родители помнили лучшее и имели иное мнение.
Как и у мамы, наши одежды были простыми. У папы кроме смены белья имелись один костюм, пара брюк и рубашек. Нарядов ни у Тани, ни у Лены не было. Я ходил в коротких штанишках и мечтал о брюках, которые мне впервые сшили только к восьмому классу. Обувью всем служили парусиновые туфли, а зимой – ботинки.
Мама была так загружена, что не имела возможности оглядываться, раздумывать и рассказывать о прошлом. В те годы только мало-помалу в основном у тети Поли удалось выведать, что родилась мама в 1900 г. и росла с сестрой Пелагеей и братом Дмитрием в семье своих родителей – Гавриила Петровича и Анны Яковлевны Макеевых в Волчанске. Весной 1917 г. она закончила там частную женскую гимназию Ребиндеров, в том же году умерла их мать. Тетя вспоминала, что гимназистки весело и шумно приветствовали отречение царя как начало свободы.
Затем она полтора года проучилась в сельскохозяйственном институте в Харькове. Вместе с подругой жила на квартире на Сумской улице в семье булочника-немца, заодно осваивая немецкий язык. Видела там переход власти в городе из рук в руки, аресты и расстрелы на улицах. На каникулах в конце лета 1919 г. вернулась в Волчанск. В окрестностях города на глазах ее и Пелагеи с мужем Павлом бандиты «зеленые» застрелили сестру Павла – Зину и схватили Дмитрия – брата Сони и Поли.
Дмитрия бандиты утащили в лес. Он до войны учился в Петербурге в Лесотехнической академии. Добровольцем пошел на фронт и в боях заслужил звание поручика. Участвуя в наступлении Добровольческой армии Деникина, был ранен и получил отпуск для долечивания в Волчанске. По просьбе Гавриила Петровича комендант Волчанска послал солдат, которые обнаружили тело Дмитрия. Его вместе с Зиной похоронили неподалеку от могилы Анны Яковлевны.
Снова вернувшись из Харькова в Волчанск к рождеству, Соня не застала семьи, которая уехала вместе с отступавшей Добровольческой армией. В городе хозяйничала Советская власть. Соню забрали в Чека. Ее выспрашивали о местонахождении отца. Убедившись, что она ничего не знает, сказали, что его уже расстреляли, и отпустили. Мать Павла – решительная Матрена Трофимовна, на которую Гавриил Петрович оставил дом, была уверена, что чекисты снова заберут Соню, и организовала ее побег из Волчанска.
Надежный возчик Макеевых нагрузил подводу мешками с пшеницей, среди которых сделал укрытие для Сони. Она забралась туда, и возница провел подводу через проверку вооруженным патрулем красных, сказав, что везет зерно на мельницу. Он привез Соню в село неподалеку от Харькова, на мельницу, которая принадлежала племяннику Гавриила Петровича – Игнатию Павловичу.



