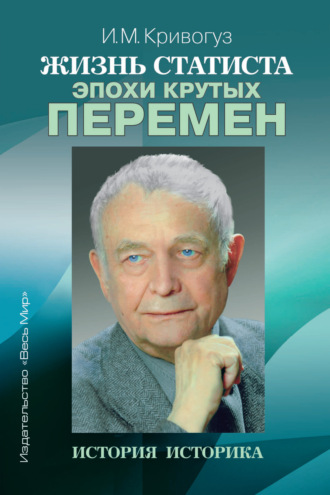
Полная версия
Жизнь статиста эпохи крутых перемен. История историка
Когда Игнатий Павлович получил весть, что Гавриил Петрович с семьей добрался до Екатеринодара, он подготовил Соню к сложной поездке к родным и с нею направил туда свою младшую сводную сестру Катю, поручив им шубы и чемоданы с ее ценностями. При пересадке в Ростове шестнадцатилетняя Катя отказалась посидеть с вещами, пока девятнадцатилетняя Соня разыщет нужный поезд. Искать его вдвоем, таская с собой тяжелые шубы и чемоданы, у них не было сил. Все вещи они сдали в камеру хранения, откуда спустя пару часов им выдали лишь пустые чужие чемоданы. Вместе с вещами пропали и царские золотые червонцы, зашитые в подкладку одной из шуб. Чекисты станции, к которым они обратились, найти ничего не смогли, только посадили их на эшелон, отправившийся в Екатеринодар. Там их отца уже не было, но беженкам дали его адрес в Кавказской.
Воспитывалась мама православной, но работа в детдоме и советской школе, а также советское естественно-научное образование сделали ее атеисткой. Высшей ценностью для нее было благополучие семьи, которую она берегла самоотверженно. Чтобы обеспечить благополучие близких, она трудилась с природной макеевской выносливостью и энергией в соответствии с установками властей, оставляя в стороне непонятные превратности политики. Потрясенная собственными признаниями «врагов народа» на больших судебных процессах, мама однажды с болью сказала: «ведь они все имели, чего же они еще хотели?» Этим признаниям она верила, а других серьезных мотивов поведения, кроме обеспечения близких всем необходимым, она, видимо, не представляла. Да и задумываться о зигзагах внутренней и внешней политики ей было некогда.
При всем том революция, произошедшая в годы завершения формирования ее мировоззрения, дала ей уверенность в безграничных возможностях преобразования общества, природы и каждого человека. Мама настойчиво, но терпеливо, избегая препирательств, изобличений и конфликтов, добивалась казавшихся ей нужными перемен в поведении детей, учеников и других окружающих беседами, добротой и помощью. Этим она стала заниматься в детдоме для беспризорников в Кавказской, где ей пришлось начинать работу, и видеть, как она рассказывала, много детских бед и пороков. Она всегда самоотверженно заботилась о папе, обо мне, Тане и Лене, принимая на себя все наши трудности. Была очень отзывчива на нужды не только родственников, но и всех окружающих – соседей, сослуживцев, спешила им на помощь. Всегда стремилась найти способы сделать больше посильного, не уклонялась от любого дела. При этом никогда не сетовала и никому не жаловалась ни на бедность, нехватку сил и времени, ни на ослабленное голодовкой и напряжением здоровье. В самые трудные годы не видел ее усталой и отдыхающей, тем более – унылой или плачущей.
Папа имел иные достоинства и недостатки. Он был шатеном немного выше среднего роста. Имел четкие правильные черты лица и внимательные серые глаза. До своих пятидесяти лет, исполнившихся в 1941 г., оставался статным, носил простую аккуратную одежду. Держался всегда с достоинством и ходил размеренным шагом. Обычно говорил обдуманно, выражал мысли четко и обладал каллиграфическим почерком. Изредка, кем или чем-либо возмущенный, взрывался и высказывался резко, категорично и громко.
Папа стремился сохранять независимость мышления и поведения. Высшими ценностями считал честность и справедливость. Болезненно переживал отступления от них в непосредственном окружении. О людях судил только по их личным свойствам, по образованности и по достигнутому честно, собственными силами. Зависть была ему чужда. При этом он никому вполне не доверял, кроме, пожалуй, четы Чернышевых.
Отец говорил, что уже в юности утратил веру в Бога и укрепился в атеизме благодаря общественным дискуссиям 1920-х годов. Говорил, что достаточно прочесть Библию, чтобы стать атеистом. Мне он растолковал, что не Бог создал людей и все окружающее, а люди придумали богов, мифы и религиозные учения для объяснения еще не понятного, оправдания своих устремлений и объединения для достижения общих целей. При этом уважительно, без враждебности относился к любой религии. Он был убежден, что с накоплением знаний понимание всего сущего углубляется и расширяется. Был солидарен с убеждением мамы в безграничных возможностях изучения и переустройства природы и даже людей, хотя полагал, что это намного труднее, чем казалось маме.
Большое значение придавалось папой образованию и роли учителей. С горечью сетовал, что образованность все еще недооценивается и социальное положение учителей принижено. Но во все-охватывавших общественных организациях был пассивен. Его отношение к ВКП(б) постепенно изменялось от настороженного к сдержанному. Только после начала Отечественной войны на мой вопрос, вступит ли он в ВКП(б), ответил, что вступит, если его пригласят и объяснят, зачем это нужно.
Папа прошел необходимую аттестацию и получил право преподавать математику в старших классах. Уроки вел артистично, умел и постановку задачи, и ее решение подавать как поиск и открытие. К ученикам был требовательным.
Дома больше всего занимался своей любимой математикой: решал интересные задачи, готовил задания, проверял контрольные работы или размышлял, вышагивая по комнате. В его жизни и в стране продолжало происходить многое, требующее обдумывания. Судя по его виду, размышления были горькими, но ими он ни с кем, даже с мамой, не делился.
Он стремился дать детям хорошее образование и немало внимания уделял урокам и увлечениям детей – моим, Татьяны и Лены. Однажды мне никак не удавалось придумать и нарисовать себе герб для игр в рыцарей. Спросив, чем я озадачен, он сказал: «Да у тебя есть герб», и нарисовал орла с короной, прикрытого щитом с тремя перекрещенными палицами, а также девиз: «Добро и воля». Я не считал палицы лучшим оружием, но герб и девиз использовал, не спросив, откуда они и что значат. «Цыплак!», – воскликнули ребята, увидев на нарисованном гербе голую шею и тощее крыло орла. Так и оказался я в наших рыцарских турнирах то бароном, то герцогом Цыплаком.
Папа научил меня играть в шахматы, которые очень уважал, и поддерживал мое увлечение ими. По моим просьбам покупал конструкторы, коньки, фотоаппарат, велосипед, приносил на время из школы телескоп, был инициатором обучения игре на скрипке, что, к сожалению, не получило развития. Так же заботливо относился он к потребностям и увлечениям дочери и племянницы. За все мои школьные годы лишь несколько раз резко отчитывал меня за недостойное поведение. Однажды даже взялся за ремень, но я убежал и вернулся, когда он уже успокоился.
Папа нередко рассказывал о случаях из своей жизни и происшествиях со знакомыми. Этими рассказами доказывалась необходимость честности, добросовестности, трудолюбия, благожелательности и опасность пороков, в частности, пьянства и азартных игр. Сам он не избегал пива, вина, водки, но употреблял их изредка и мало, никогда не был пьян, а карт в руки не брал, даже для игры в «подкидного». Им рассказывались анекдоты, высмеивавшие глупость, невежество, спесь, наглость, зависть. В некоторых из них задевались попы и появившиеся тогда полуграмотные учителя-чеченцы.
В кругу близких отец любил поговорить о своей принадлежности к кубанским казакам и об их традициях. Но претензии на казачью исключительность ему были чужды. Он мало сообщал о своей матери, а о своем отце, умершим, когда папе было три года, рассказывал в основном с ее слов. Говорил еще, что мать его отца, основавшая постоялый двор, была имеретинкой. Как она попала в Кавказскую и оказалась в казачьем сословии, он не объяснял.
Много позже тетя Поля рассказала, что потерявшая родных и дом в результате вторжения турок юная имеретинская дворянка приехала в Кавказскую с войсками, вернувшимися с турецкого фронта. От молодого офицера родила внебрачного сына. Со временем, обзаведясь постоялым двором, она обвенчалась со своим работником – хромым казаком-бобылем Кривогузовым, ставшим отчимом ее сыну. Тетя Поля поведала и о том, о чем папа не говорил ни слова: о его первой жене и о наследстве из зарубежья, полученном им через генерала Неврева в Ростове в 1913 г., и невесть куда девшимся8.
Отец не без гордости говорил, что, отбыв в 1912 г. обязательную казачью службу – всего девять месяцев под началом станичного урядника, – больше никогда ни в чьих войсках не служил и в войнах не участвовал. Как это ему удалось, не объяснял. О революции и гражданской войне никогда ничего не говорил. Упоминал как ужасный лишь случай, когда при артиллерийском обстреле станицы снаряд разнес на соседнем дворе сарай, в котором, к счастью, никого не было. Прямых связей со своими двоюродными братьями в станице Кавказской не поддерживал, но изредка узнавал об их жизни от земляков, проживавших в Грозном.
Папа любил и хвалил русскую народную музыку, особенно пение, а также театр – драмы и оперы. В разговорах обнаруживал знание ряда произведений Л. Толстого, А. Чехова, Ф. Достоевского, Н. Лескова, А. Куприна, А. Островского, а сочинения советских авторов, даже шолоховский «Тихий Дон», не читал, и кинофильмов почти никаких не смотрел. После просмотра фильма «Учитель» он был так возмущен унижающей учителя трактовкой его роли в жизни, что от приглашений в кино стал отмахиваться без объяснений.
Всюду, кроме уроков, отец много курил. Предостерегая меня, он рассказывал, что курить начал с шести лет и однажды курение с приятелями стало причиной пожара – сгорел стог сена. Несмотря на протесты мамы, он задымлял квартиру, превращая нас в пассивных курильщиков. Наверное, для меня это было профилактической прививкой, навсегда исключившей мой интерес к курению. Из-за курения папа сильно кашлял. Я до слез огорчался, боясь его смерти. Но к врачам он не обращался, и в больницу попал лишь однажды: в 1940 г. ему сделали незначительную операцию.
Домашним хозяйством отец не занимался. Он только сдерживал маму от трат на питание, чтобы купить нужные семье вещи, и сам делал серьезные покупки. Предоставив маме нести нелегкое бремя домашнего хозяйства, папа очень ценил и не скупился на похвалы приготовленным ею блюдам, ее заботам о ремонте одежды, здоровье и быте всех нас. Он молчаливо поддерживал мамину работу, учебу и даже общественную активность, от которой сам воздерживался.
Родители всегда были взаимно внимательны, уважительны и нежны. Конечно, между ними возникали расхождения по семейным делам, но явных ссор мы никогда не видели и ничего о них не слышали. Думаю, они любили друг друга каждый по-своему, и в заботах о семье, детях их объединяло общее понимание императива советской действительности: работа в соответствии с установками власти.
Выписывали и просматривали газеты «Правда» и «Грозненский рабочий», слушали радио. Никогда никаких суждений, расходящихся с партийными оценками происходящего, не выражали. Но и одобрений официальной политики не высказывали. Очевидно, многое они не могли понять, особенно коллективизацию и массовые репрессии, в частности, аресты известных им местных работников. Конечно, у отца обо всем были свои суждения, но он их никогда не оглашал, лишь изредка обменивался мнениями с Павлом Михайловичем Чернышевым – мужем тети Поли. При различии в характерах Павел Михайлович был, видимо, наиболее близок ему по взглядам на жизнь.
Семья была тесно связана с родственниками. Лена, как уже говорилось, пару лет жила в нашей семье, и ее мать Мария Стефановна и сестра Люба тоже перебрались в Грозный. Мария Стефановна устроилась санитаркой в Третью советскую больницу и поселилась при ней в общежитии, а слабая здоровьем Люба поступила в учительский институт в городе и получила место в студенческом общежитии.
Вместе с Чернышевыми и Карповыми мы отмечали семейные праздники – именины родителей и дни рождений детей, мамины успехи. Когда собирались у нас, мама пекла пироги, готовила вкусный торт – «наполеон», жаркое и различные закуски. Как лакомство подавались шпроты, селедка и сосиски. Жаль только, что этого приходилось дожидаться голодными почти до вечера. Водки, настойки и вина на столе было всего на несколько рюмок. Собравшиеся обсуждал семейные дела и планы, вспоминали песни молодости, но не танцевали.
Обычно с Чернышевыми и Карповыми родители продолжали посещать спектакли городских театров, в которых кроме местных артистов нередко ставились драмы и оперетты артистами краевого театра, однажды приезжала московская опера.
Тем временем Чернышевы сменили род занятий. После многих лет работы бухгалтером в различных учреждениях Павел Михайлович стал преподавать в школе математику. Тетя Поля тоже сменила бухгалтерию на учительство в начальной школе.
Пелагее Гавриловне в 1941 г. исполнилось пятьдесят лет. С загорелым лицом, кареглазая, среднего роста, стройная, с уложенными клубком длинными темными волосами она была всегда спокойна и рассудительна, говорила со всеми доброжелательно, негромко, но убедительно.
В отличие от других наших близких, она оставалась глубоко верующей. Ее вера выражалась не столько в соблюдении религиозных обрядов и традиций с минимальным общением с контролируемой властями церковью, сколько в твердой приверженности нормам христианской морали в повседневности. Эти нормы являлись основой ее поведения, отношения к людям и их оценки без ханжества, с учетом всей сложности советской действительности. Она прощала людям их слабости и, в отличие от мамы, не стремилась их переделать. Веру считала сугубо личным выбором, и никогда ни словом, ни видом никого не упрекала за атеизм или иноверие. Я не знал человека, более искренне верующего и последовательно нравственного, чем тетя Поля. Вполне осознал это только взрослым, но уже в детстве ее поведение научило меня уважать действительную веру, а не обрядность.
Пелагея Гавриловна любила своих учеников. Она учила их всему по программе, но особенно настойчиво устному счету, в котором сама была большой мастерицей: мгновенно складывала, вычитала, умножала и делила любые суммы. Успехи в устном счете были важным критерием ее оценки способностей учащихся.
Тетя Поля по-матерински заботилась о племянниках Павла Михайловича, и они звали ее мамой. Нам с Таней она всегда была второй мамой. В дошкольном возрасте, а позже на каникулах Таня иногда гостила у тети Поли и Павла Михайловича по нескольку дней. Когда было возможно, и я с удовольствием приезжал к ним на два-три дня. В одно лето, когда мама надолго уехала на сессию в Ставрополь, а Таня и я болели корью, нас поселили у Чернышевых. Тетя Поля выхаживала нас в полутемной комнате. В другой раз мама отправилась в Ставрополь сдавать госэкзамены, а я нечаянно напоролся на гвоздь пяткой, которая долго нарывала и была оперирована. Тете Поле пришлось почти на полтора месяца взять на себя заботы о Тане и обо мне и жить у нас.
Павел Михайлович в 1939 г. перешагнул за пятьдесят. Он был невысоким, но крепким, с добрыми ясными глазами, густой рыжеватой седеющей шевелюрой и прокуренными усами, как у Александра-Освободителя. К жене он относился с любовью и уважением. Ему была чужда мужская спесь: он охотно помогал ей вести домашнее хозяйство, занимался покупками, иногда огородом и животными, даже приготовлением обеда, за которым не прочь был пропустить рюмку-другую. Курил и выпивал очень умеренно.
Органически свойственна ему была такая же, как у Поли, нравственность, только, пожалуй, с более рациональным обоснованием. В юности он учился в духовной семинарии и поэтому хорошо знал православные обряды и церковную музыку. Но он никогда не проявлял религиозности, а только старался не нарушать некоторые обычаи, которых придерживалась тетя Поля. Соблюдал посты. К подчинявшейся советской власти РПЦ относился скептически. Говорил также, что многие советские композиторы-песенники в своих сочинениях используют церковные мелодии. Уважал порядочных людей вместе с их слабостями. У него не было предубеждения против каких бы то ни было религий или народностей. И анекдотов, задевающих попов, евреев, чеченцев, армян и иных, он не любил.
Конечно, необходимость соблюдения советских норм жизни была ему очевидна. О политике говорил очень осмотрительно, особенно при детях. Но однажды, как запомнила малолетняя Таня, возражая отцу, говорившему о хитроумности Сталина, назвал вождя народов бандитом. В отличие от подавляющего большинства советских граждан, вовсе не грустил по поводу смерти вождя, скорее – наоборот.
Он по-прежнему восхитительно пел в кругу родных. Любил играть в карты с тетей Полей, а изредка находил компании для преферанса по маленьким ставкам. Был интересным собеседником, обладавшим мягким юмором. Говорил, что из духовной семинарии его исключили за увлечение игрой в карты. Да он и не хотел быть священником. Стал сельским учителем, женился на Поле, а позже вместе с нею поселился у Макеевых в Волчанске. Рассказывал о своем участии в охоте на волков, об учительстве в селах и о знакомых в Волчанске. Вспоминал, как предводитель волчанского дворянства Колокольцов после свержения царя бегал по уезду, прячась от новой местной власти, пожелавшей его судить. Повествовал и о других занимательных случаях, только никогда ни слова не сказал о своих злоключениях в 1920 г.
Запомнилась его притча о хозяине и приказчиках. Пьют на веранде чай хозяин и младший приказчик. Приказчик сетует: «Вы, ваше степенство, долго держите меня младшим, мало платите. Почему?» Поглядел на него хозяин, и, указывая на видневшийся тракт, сказал: «Видишь большой обоз, узнай, что везут». Вскочил приказчик на коня, помчался к обозу, вернулся и доложил: «Соль везут». «Садись, пей чай», – сказал хозяин. Сам же позвал старшего приказчика и велел ему узнать про обоз. Тот съездил к обозу, вернулся и доложил: «Везут соль в дальний город, рассчитывают получить три копейки за пуд, я предложил взять по две, согласились и заворачивают к нам». «Вот тебе и ответ на твой вопрос», – сказал хозяин младшему приказчику.
В конце 30-х годов родители и Чернышевы серьезно подумывали о переезде из Грозного в Волчанск – на родину мамы и тети Поли. Для выяснения ситуации в Волчанск (как я догадался – инкогнито), ездил Павел Михайлович. Он вернулся через неделю, и от мысли возвратиться в Волчанск пришлось отказаться. Из разговоров взрослых я понял, что там их ожидают только неприятности. Как я потом узнал, в доме Макеевых разместился клуб какого-то предприятия, но жители помнили, что его прежние хозяева бежали с деникинцами. Даже в 1960-х годах, когда тетя Поля проездом посетила Волчанск, старожилы, увидев ее, говорили: «хозяйка приехали». Оставив мысль о возвращении в волчанские пенаты, в 1940 г. Чернышевы поселились в саманной пристройке к домику, приобретенному Карповыми.
Павел Михайлович с тетей Полей всеми силами продолжали помогать его племянникам, даже когда те стали вполне самостоятельными. Поддерживая их в разных ситуациях, Павел Михайлович, призывая к стойкости, говорил: «Если тебе плохо, ты вспомни, что имеется много людей, которым гораздо хуже». Николай успешно продвигался на речном флоте в Ростове-на-Дону и женился. Зоя закончила Тимирязевскую академию, но не желала работать в сельском хозяйстве, а поселившись с Павлом Михайловичем и Пелагеей Гавриловной, стала заочно учиться в пединституте и преподавать английский язык в школе. А старший – Георгий, работавший инженером на железной дороге в Кропоткине, попал в тяжелую ситуацию. Его жена, родившая двойню, пыталась по инициативе своей родни дать взятку военкому, чтобы отсрочить призыв мужа в армию. Он взял ответственность на себя и был осужден на два года. Чернышевы это тяжело переживали, и мы им очень сочувствовали.
Серьезные испытания выпали на долю Карповых. Они кочевали по сдававшимся в частных домиках квартирам между вокзалом и рынком в поисках удобного места для кустарной мастерской Алексея Максимовича, изготовлявшего и продававшего красивые металлические кровати, на которые в то время оказался большой спрос. Он был суховатым, молчаливым, но энергичным. Полнеющая большеглазая красавица тетя Катя преподавала в начальной школе и мечтала о беззаботной и красивой жизни. Но индивидуальных ремесленников душили налогами, преследовали чиновники различных ведомств. Как и все кустари, Карповы пытались скрывать свои доходы даже от хозяев снимаемого ими жилья. Купленное пианино на годы поставили у нас.
Однажды, угнетенная такой ситуацией, тетя Катя попыталась «начать лучшую жизнь». Покинув мужа и сына, она бежала из Грозного с влюбившимся в нее учителем. Родители, как и Чернышевы, морально поддержали Алексея Максимовича. Через три месяца надежды тети Кати развеялись, и она возвратилась в семью. Сын Сева был рад, муж простил.
Оставив школу, Екатерина начала торговать кроватями на базаре. Это и усилия Алексея Максимовича повысили эффективность их дела. К 1938 г. им удалось заработать денег и купить небольшой домик с просторным участком и садом недалеко от главного вокзала на Рабочей улице. Там Алексеем Максимовичем была устроена настоящая мастерская, но налоги все же задушили его производство. Протесты были невозможны. О политике властей он, видимо, думал то, что благоразумно никому не говорил. Свойственная ему любовь к поэзии однажды выразилась в том, что он при мне продекламировал какое-то стихотворение о кремлевском горце, которое я не понял, но частично запомнил, и много лет спустя, знакомясь с творчеством О. Мандельштама, опознал эти стихи как знаменитый памфлет на Сталина.
Давление чиновников заставило Алексея Максимовича прекратить свое производство и устроиться на инженерную должность на одном из крупных заводов. Он был инициативным специалистом и его очень ценили. Но вскоре настойчивые и для него совершенно неприемлемые предложения вступить в партию заставили его, худого слова не говоря, покинуть завод и искать другие заработки. Его малое производство пало жертвой политики удушения кустарей-ремесленников, но, как я понял позже, даже это не заставило его отречься от интереса к предпринимательству, не сломало характера, не загнало в рамки системы: он стал индивидуальным пасечником. Против этого вида деятельности власть в то время не возражала.
Я чувствовал, но не вполне осознавал разное отношение к укреплявшимся тогда советским нормам жизни моих старших родственников, с Октябрьской революцией потерявших свое благополучие, привычную среду и жизненный ритм. Теперь понимаю, что к 1940-м годам полностью и безоговорочно советские установки приняла только мама. Папа и Чернышевы признавали их как реальность, с которой невозможно не считаться. А Карповы укрывались от этих норм в своих нишах.
Конечно, я подозревал, что не все, ставшее мне тогда известным о моих родителях и родственниках, да и поведение некоторых из них соответствовало советско-коммунистическим канонам. Избегая конфликтов с господствовавшими установками, они оставались стойкими в превратностях судьбы и прагматиками в изменявшихся условиях. От родителей унаследовал приверженность рационализму и атеизму, стремление к прогрессу и трудовой оптимизм: «терпение и труд все перетрут». Это способствовало моему приобщению к господствующим коммунистическим ценностям.
* * *Семья и ее связи содействовали моему знакомству с городом и страной. Поездки к Чернышевым и Карповым, в главный кинотеатр города, в котором новые фильмы демонстрировались раньше, чем в других, в театры, посещение краеведческого музея, цирка, гоночного трека познакомили меня с городом. Тогда в нем дома высотой более двух этажей имелись в основном на нескольких улицах: идущей от вокзала Комсомольской, перпендикулярной ей Августовской, на проспекте Революции, параллельной ему улице Крафта, за мостом через бурную и мутную Сунжу на улице Ленина и лишь кое-где в других местах. Красивых строений было мало. О восточной архитектуре напоминали лишь мавританские арки здания обкома партии и облисполкома.
Город был растянут, его дальние концы соединялись трамвайными линиями. Трамвай ходил и на Новые промыслы. А на Старые промыслы с вокзала Грознефть ездили на стареньких поездах. Северо-запад города занимали крупные нефтеперегонные и машиностроительные заводы, производившие нефтяное оборудование, окруженные новостройками для рабочих. Это Заводской район, переименованный в Сталинский. А большая часть города была занята казачьими домами старой станицы.
На центральных улицах росло немало деревьев. Имелись зеленые скверы. Многие частные дома стояли в садах. В излучине Сунжи раскинулся городской парк имени Кирова. Обычно его называли треком, так как когда-то начало парку было положено устройством овальной трассы для мотоспорта. В парке был пруд с лодками и островом, на котором жили павлины, стадион и различные аттракционы. Наша семья приезжала туда погулять, покататься на лодках. Мы также посещали помещавшийся в огромном шатре в центре города цирк. Там иногда выступал Дуров с животными, проводились схватки восхищавших школьников борцов, рядом проводились гонки на мотоциклах по стенам.
Кроме кварталов центра, в котором размещались органы власти, театры и огромный нефтяной институт, интерес представлял базар, расположенный между центром и главным вокзалом. На нем имелись крытые павильоны и ряды, открытые прилавки, складские помещения. Сюда чеченцы, ингуши и другие сельские жители на арбах и подводах, запряженных лошадьми или ишаками, или просто верхом, редко – на грузовиках, привозили на продажу овощи, фрукты, ягоды, орехи, вина, а также телят, овец и птиц. Свиней и поросят доставляли только колхозники-казаки. Государственная торговля оставалась скромной, а обилие и разнообразие продовольствия на рынке было поразительным. Правда, мяса продавалось не особенно много – холодильников тогда не было. Здесь же у индивидуальных ремесленников и кооператоров можно было купить одежду, обувь, мебель и другие изделия.



