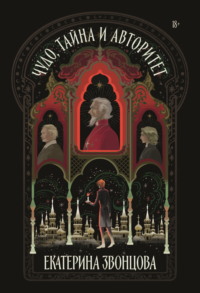Полная версия
Письма к Безымянной
– Но ведь я… – Людвиг открывает рот и смолкает.
«…был один». Слова прилипают к зубам, стоит еще раз хорошенько вглядеться в этого ребенка, чьи глаза в сумраке еще пытливее. Понятно: он не поверит. А это значит…
– Вы прячете ее, о ней никто не знает, – как ни в чем не бывало продолжает он. – В свете говорят, что жены у вас нет, значит, она ваша любовница.
– Отвратительное слово, – сплевывает Людвиг, всеми силами отгоняя оживившийся внутренний голосок: «Прекрасное, ведь именно так, так ты хотел бы звать ее!» – Не вздумай больше его произносить. Это низко, она моя кузина, она помогает мне… м-м-м… переписывать ноты… – Хотя щеки мальчика, кажется, слегка пунцовеют, непонятно, точно ли он поверил хотя в это. Нужно продолжить. – И да, это еще одна вещь, о которойникто не должен знать. Проговоришься, – Людвиг склоняется ближе и щурится, – и я не просто выгоню тебя, я сделаю так, что ни один именитый музыкант в Вене тебя не возьмет. Мне не нужны сплетни. Тем более о «любовницах», которых нет.
Он уже холоден, ничего в голосе не выдает волнения, но мысли кипят хуже адского котла. Карл увидел ее! И счел настоящей. Но как?.. Нет, нет смысла гадать, нет, и тем более теперь, после такого ведра вранья, себе дороже уточнять железную догадку нелепым вопросом «А ты вообще точно видел женщину?». Будет хуже: малыш раструбит семье, а та – всему городу, что знаменитый Бетховен повредился рассудком и забывает своих… да-да, любовниц.
– Ты мал. – Людвиг, собравшись, вглядывается в мальчика. – Мал, хотя и переразвит для своих лет. Ты свободно рассуждаешь о взрослых вещах; лично меня это подкупает, но знай: любой другой выдерет тебя, и хорошо, если просто выдерет. У меня есть причины не делиться с Веной частной жизнью. – Он слегка улыбается: мальчик потупил наконец глаза и, похоже, ищет оправдания. – И я сам, надо сказать, хорошо храню тайны, например о котятах в чужих карманах. – Он треплет Карла по плечу. – Так что, мы будем дружить и уважать тайны друг друга?
– Будем, – без колебания отвечает тот, мотает головой и заверяет: – И мне, вообще-то, все равно, с кем вы общаетесь. Хоть с самим Бонапартом.
На это Людвиг от души смеется и, заверив, что продолжает поражаться такому великодушию, выпроваживает мальчика на крыльцо. Заодно выходит и сам – вдохнуть капельку воздуха после приступа и всех следующих потрясений. Недавно был дождь, и этот воздух особенно сладкий, острее запах прелой листвы. Редкая в своей нежности венская осень, которую почти не поймать: она неизменно улетает на крыльях промозглых ветров – а потом головокружительно падает в недружелюбную зиму.
Карл тепло прощается, сбегает по ступенькам и спешит к приоткрывшейся дверце кареты. Рука согнута; Людвиг фыркает, вообразив, как фрау Черни – если, конечно, приехала она – опасливо косится в сторону его мрачной фигуры, оглядывает сына и спрашивает: «Ты играл так скверно, что маэстро сломал тебе руку?» Впрочем, вряд ли подобный разговор происходит: мальчик сразу получает от выглянувшей, неуловимо похожей на него матери поцелуй, заскакивает в салон, дверца захлопывается – и немолодые, но ухоженные лошадки тащат карету прочь. Людвиг глядит вслед с внезапной тоской, со сжавшимся и похолодевшим сердцем: какой уют… Его-то мать никогда просто так не разъезжала в каретах; те, в которых отец возил неудачливого «подменыша», сплошь были наемными.
Карета скрывается. Без плаща становится прохладно. Людвиг вновь поднимается к себе. В коридоре он приваливается к стене на том месте, где недавно лежал; одними губами шепчет несколько подряд нелепых, он сам знает, что нелепых, имен: «Кармелита, Амелия, Жаклин, Кларисса…» За последние годы это вошло в привычку: так заклинать пустоту, надеясь, что однажды она озарится солнечным золотом или окрасится речной синевой, и Безымянная предстанет перед ним во плоти, навсегда; выйдет к нему, как проклятая принцесса из хрустального гроба.
Заклинать пустоту. Не об этом ли вся его жизнь и музыка?
Людвиг прикрывает глаза, думая о творческой лихорадке, в которой мечется с весны. У него почти весь год отлично писалось: и музыка к «Творениям Прометея»[69], с которой оказалась неоценима помощь Сальери, и даже симфония: он создал первую симфонию, которую, немного с собой поборовшись, посвятил ван Свитену в благодарность как за неизменную поддержку, так и за внимание к Каспару. Симфония Людвигу не так чтобы нравилась: начало казалось прыгающим, середина – дисгармоничной, конец – слабым. Барон, впрочем, остался в восторге, найдя в музыке отголоски и любимого Баха, и великого Амадеуса, и, разумеется, Гайдна, с которым помирился сразу после возвращения мэтра из Англии. И хотя ныне все больше хочется явиться к барону и отобрать партитуру с нелепыми словами: «Давайте я ее сочиню заново», Людвиг сдерживается, понимая: ученический труд не менее ценен, чем труд мастера. Вторая симфония – та, наметки которой поглощают его сейчас, – будет лучше, ну а третья… с третьей он осмелеет и вернется к давнему замыслу, тому, который когда-то едва не опозорил его. Тогда восторженный, но уродливый музыкальный выкидыш расщепился и воплотился в фортепианной фантазии, а вот остальные голоса… С ними он не расстался – просто боится подступаться. Да и все тот же Сальери сказал забавное: что создание сочинений сродни выпеканию лепешек – первая обычно пригорает, вторая почти съедобна, а уже третья чаще всего хороша. На это Людвиг и надеется, бесконечно откладывая работу над «героикой» и набивая руку на чем-то попроще. Еще сегодня ему казалось, что он на верном пути, полон азарта и сил, вот-вот закончит, теперь же…
Теперь приступ, а потом еще и дикий разговор, рушащий опоры. Мальчик увидел Безымянную – первым из всех, кого Людвиг знал! Или нет? Или он лишь первым сказал об этом вслух? Мысль не дает покоя; Людвиг ведь никогда не пытался осознанно, как беспощадный логик, раскладывать детали по двум чашам весов. Прогуливаясь со своей ветте, он покупал два пирожных или кулька с жареными каштанами… но, как потом оказывалось, деньги с него брали за одну порцию. Он говорил с ней, пусть пытаясь не слишком артикулировать, – но часто увлекался, и смеялся в голос, и, разумеется, предлагал ей локоть – но не поймал ни одного косого взгляда, каким, несомненно, был бы награжден сумасшедший, прохаживающийся под руку с воздухом. Так что же все это было, что…
И не дошло ли до того, что сам разговор о «любовнице» ему почудился?
– Нам нужно поговорить, – шепчет он, открывает глаза и видит все ту же пустоту. Он совсем не удивлен, только усталость наваливается сильнее и опять, хотя пока совсем слабо, начинает гудеть и стучать в ушах.
Он отталкивается от стены и нетвердо возвращается в загаженную гостиную. Да… теперь, именно теперь он не может сказать иначе: «загаженная». Пора убрать ненужную дрянь, пора хотя бы дать монет хозяйской приживалке, чтобы вымыла посуду и полы, а сначала всю эту посуду собрать; пора выгрести – а лучше сжечь – черновики; пора подумать, а не дать ли шанс композиции, которую играючи «подлечил» Черни? Если с неудачными местами справился ребенок, неужели Бетховен не справится? Не рано ли он опустил руки, не подстегнула ли его возможность отдавать время другим, более с его точки зрения знаковым вещам? А ведь это подарок. Нужно… нет, нет, не сейчас и не с этими молотками в черепе.
Людвиг плетется к креслу, где караулил ученика, и падает на вытертое сиденье. Запрокидывает голову, но тут же, наоборот, поворачивает ее, подметив стихшую пляску солнечных «рыбок» на стене. Солнце ушло. Портрет Наполеона окутан вечерней тенью, но и из нее глядит пристально и гордо. «Борись». Так он бы сказал. И Людвиг бы боролся.
Вот для чего ему нужен Первый Консул, нужен как никто. Он выигрывал битвы, замерзая в снегах и задыхаясь в песках, он был болезненным в детстве и получал раны в юности, он не опускал головы, что бы ни случалось… и вот он в ореоле славы и силы. Его образ ободряет, иметь этот портрет в доме – преступление в глазах консервативных венцев, но хотя бы не в собственных глазах этого незаурядного человека. То ли дело Безымянная, ветте, которая, стоило пару лет назад заикнуться о том, как хочется иметь картину с ней, сказала строго:
«Меня не должно быть в твоей жизни так много, заполни ее другими».
– Я не хочу, – отчетливо произносит он и отворачивается. Повторяет: – Нам нужно поговорить.
Пустота не отвечает, а последнее солнечное пятно пропадает с пола.

Отчаяние – не советчик; не стоит принимать решения, когда чувства твои сродни птенцу, вывалившемуся из гнезда, – растрепанному, не понимающему, где он, и способному лишь тоненько пищать. Впрочем, я не скажу, что был в отчаянии, меня скорее оглушило то, с чем я жил годами и что рухнуло в один день. И ведь я еще даже не произносил этого слова – «рухнуло», не осознавал всех последствий, а просто ждал, ждал, что наступит суббота, и ты придешь, и мы объяснимся, и я услышу что-нибудь простое и понятное, хотя бы «Да, Людвиг, это была ворожба». И морок обретет очертания, и я скажу с улыбкой: «Ты из Тайных. Что ж, я подозревал».
Но в субботу ты не пришла. Я промаялся день, и следующий, и еще три, все надеялся увидеть тебя, но не видел. Что делала ты в это время? С кем была? В моих снах снова правил он, трон из костей, и кто-то сидел на нем, недосягаемо огромный, и, стоя у подножья костяной горы, я ощущал его взгляд. Чудовищный образ… как долго он преследовал меня, преследовал со дня, как появилась ты, не ты ли привела его? Если и так… сейчас что-то в нем изменилось. Хозяин опять стал иным, прежде он не был ни так высок, ни так… холоден, да, холоден, мне то и дело чудилось, что ледышки его мерцающих глаз сковывают меня. Хотелось бежать, но я стоял; хотелось вынуть из горы хотя бы один череп в надежде, что обрушатся прочие, но я оцепенел.
В оцепенении я и пребывал, когда проснулся.
Но братья разбудили меня, о чем я сожалею до сих пор.
В пивной «У черного верблюда», притаившейся в паре проулков от Грабен, как всегда, оживленно и нестолично: ни искры лоска, но кипит и пенится жизнь. Запах – словно ватага охотников жарит кабана; голоса грохочут, перемежаясь смехом «грабенских нимф»[70] в цветастых платьях; в воздухе витает дым, спеша к сводчатому, помнящему первых Габсбургов потолку. От жары хочется ослабить платок или вовсе расстегнуть пару пуговиц на рубашке, повальяжнее развалиться, запрокинуть голову… «Нимфы», впрочем, примут это за приглашение: и так посматривают на троих мужчин, чей стол ломится от шницелей и бакхендлей[71], картофельного салата, кнедлей, свежего хлеба и квашеной капусты. Каспар и Николаус, судя по аппетиту, здорово проголодались за день; Людвигу же кусок в горло плохо лезет, но он старается не привлекать к этому лишнего внимания.
– Почему не ешь? – в который раз гаркает Каспар сквозь шум, и Людвиг послушно скребет приборами по блюду, делая вид, что отрезает кусок мяса. – Не пренебрегай моей щедростью, больше такого не будет!
У ужина есть повод: закончился пробный срок службы Каспара в Департаменте финансов, куда он попал по протекции ван Свитена. Служба нравится брату – он совсем перестал жаловаться на нехватку музыкального досуга и даже сегодня походу в оперу предпочел праздное чревоугодие. Определенно, знакомство с бароном – его Людвиг провернул во время одного из пасхальных концертов – пошло на пользу обоим. Ван Свитен нашел того, с кем, безусловно, сходился в большинстве взглядов и в творческой манере, а Каспар, узнав историю его жизни, словно смягчился к собственной. Следуя чужому примеру, брат быстро идет по проторенному пути, пусть и лишен шансов на столь головокружительные должности. Ему хватает и роли среднего чиновника, с расчетами у него так же хорошо, как с разборами композиций. Людвиг слушает его рассуждения о бюджете страны и едва узнает: с этим ли человеком они прежде обсуждали разве что театральный репертуар и виды дров?
– И вот тогда она сама, понимаешь, сама говорит о венчании! – Каспар, размашисто жестикулируя, все рассказывает что-то Николаусу. – Время меняет женщин, о да, меняет, они становятся напористее. И мне это нравится!
– А ты на ней женишься? – с набитым ртом уточняет младший брат.
Каспар едва ли не крестится.
– Боже упаси. Я точно однажды женюсь на оторве, но эта еще и не хочет детей! А хочет она уплыть в чертову Америку, говорит, там все богатые и свободные…
– Зачем тогда все? – не сдержавшись, тихо интересуется Людвиг и, разумеется, ловит снисходительный взгляд.
– Слушай, музыкальное целомудрие – вещь недурная, чтобы не расплескивать вдохновение. – Каспар многозначительно поднимает брови и отправляет в рот ком размятой картошки с зеленью. – Но я, как видишь, уже не так чтоб музыкант.
–Не расплескивать! – Нико украдкой фыркает. Ему понравился пошлый каламбур, но он сдерживает смех, боясь обидеть Людвига. Тот улыбается, как бы разрешая ему посмеяться, и предпочитает снова уйти в себя.

Братья повзрослели, и последние годы – те, в которые они обжились, встали на ноги, – многое в них поменяли. Каспар резко возомнил себя старшим и теперь все реплики бросает с видом «Я знаю лучше». Николаус преодолел робость; долгая работа и учеба сделали его собраннее и спокойнее. Первый использует цепкий ум, чтобы преуспевать в карьере и параллельно секретарствовать для Людвига, торгуясь с его издателями; второй одержим мечтой о собственной аптеке. Оба научились модно одеваться и не жалеют на это денег: «Нужно же держать лицо». Оба предпочли первым именам вторые: Каспар представляется Карлом, так как это благозвучнее; Нико – Иоганном, в память об отце. Оба одинаково далеки и близки. Еще и участившиеся разговоры о женщинах…
– Я не хочу, – слышит Людвиг голос младшего и поднимает глаза. Объевшийся Николаус сдвинул подальше тарелки, а вот пива ему успели подлить, такого же темного, как его аккуратные, чуть вьющиеся волосы. Здоровый глаз прищурен от удовольствия, кривой прикрыт тяжелым веком. – Мне пока важнее преуспеть, ну а женитьба…
– Так найди себе дочку аптекаря с приданым! – Каспар подмигивает. – Двух зайцев сразу…
– Занятная идея. – Брат, как всегда, тактичен, лишь улыбается широкой лягушачьей улыбкой и привычно дергает себя за прядь, занавешивая изъян. – Я над этим подумаю.
Людвиг встречается с ним взглядом, и они обмениваются немым посланием: «Сейчас будет: “А вот я…”»
Почему нет? Людвиг и рад, что случилось чудо: невзрачный птенец вырос в яркую птицу. В Каспаре проявилась своеобразная импозантная демоничность: ее обнажали рыжая шевелюра, грубоватое, но обаятельное лицо, крепкие плечи, мрачный взгляд. Пару раз Людвиг слышал немыслимое сравнение с Фридрихом Барбароссой и не находил что ответить, вспоминая, каким оставлял «Барбароссу» в Бонне. Неужели Безымянная права? Каспару только и нужно было остаться без опеки, чтобы поднять голову? Мысль до сих пор гложет, цветущий вид брата растравляет ее. Не музыкант, но всем доволен. Подвизается в безумствах Казановы. Женщины – второе после модной одежды, на что Каспар с охотой спускает деньги. Ледяные и знойные, юные и постарше, цветочницы и певицы, без разбору – он приятно проводит время, таинственным образом избегая последствий. Впрочем, рано или поздно они его настигнут, как и всех, – вместе с достаточно цепкой кокоткой. Но пока остается смиренно внимать пикантным историям об очередной Барбаре, Лизхен, Марии…
– А вот я, – говорит Каспар, и Николаус спешно гасит улыбку в кружке с пивом, – я познал сладость отсутствия амбиций, то, как она может привести к массе других сладостей! – Он лукаво поглядывает на одну из «грабенских нимф», белокурую, в изумрудном платье, неприятно – очень неприятно – похожую на ту, что украла Людвиговы мысли. – Посмотри, Иоганн, посмотри… – Людвига корежит от обращения, и он прячет в почти пустой кружке гримасу досады, – какая мордашка. Плечи. Волосы. То ли падшая принцесса, то ли падший ангел, и…
– Не надо о падших, – резковато просит Людвиг, и оба брата кидают на него любопытные взгляды. – Я имею в виду… такие связи тебе точно не нужны.
– Снобизм, снобизм. – Каспар мирно, но насмешливо качает головой. – Людвиг, я понимаю многое, но не пора ли вспомнить, что «ван» в нашей фамилии означает отнюдь не титулованность, а грядки со свеклой?[72] Как бы тебе ни хотелось иного.
– При чем тут это? – Нико успокаивающе хлопает его по локтю. – Людвиг лишь имеет в виду, что это… ремесло, – он украдкой кивает на девушку, – не…
– Я имею в виду, что каждый падает по-своему, – отрезает Людвиг устало. – И это падение определяет не ремесло, а дух.
– Краси-иво, брат, – одобряет Каспар и заговорщицки понижает голос: – Но я бы пал с ней. А тебе бы прекратить все же быть таким затворником, расплескай уже что-ниб…
Людвиг перебивает, велев проходящей мимо трактирщице налить ему пива. Больше пить он сегодня не собирался, но лучше так, чем сорваться и испортить Каспару настроение. А тот напрашивается, как ни в чем не бывало подступаясь с другого угла:
– Серьезно, Людвиг! – Он фамильярно приобнимает за плечи Николауса и легонько бодает его лбом в висок. – Будем честны: из нас троих тебе особенно не помешает оставить побольше потомков, а ну как они дальше понесут твой дар…
– Я сомневаюсь, что он наследуется, как старая мебель, – возражает Людвиг, а про себя опять думает: брат удивительно изменился. Чтобы он хоть в чем-то признал Людвигово превосходство лет пять назад, чтобы заявил о каком-либо даре, кроме дара быть несносным! – Так или иначе, я ведь решу это сам, верно?
Его предостерегающий взгляд Каспар игнорирует: уже пошла третья кружка. Он отпускает притихшего Нико и заявляет:
– А ну как взмолится все человечество?
– Не взмолится, – спешно вмешивается младший, опять мотнув головой и прикрыв увечный глаз. – Люди в этом плане – существа до отчаяния разобщенные; они куда чаще подвергают гениев гонениям и не понимают их, взять того же Моцарта.
– А ты считаешь Моцарта таким уж гением? – Каспар щурится. – Бро-ось. Наш брат куда лучше. И реже ведет себя как выскочка.
Перед Людвигом ставят кружку, и он невольно усмехается. А ведь дело не только в том, что Каспар расцвел и более не воспринимает себя как нелюбимый семейный придаток. Сам он, Людвиг, стал тем, с кем престижно быть в родстве, о ком стоит говорить побольше хорошего, как бы подчеркивая: «Я знаю, что нынче модно».
– За гениев, так или иначе, – предлагает тост Людвиг, и братья выпивают.
– Ты же, кстати, не знал его. – Нико принимается допытывать Каспара, мужественно отвлекая его от разговоров о любви. – Откуда знаешь, что он был выскочкой?
– Да слышу истории о нем от знакомых, в том числе неприятнейшие. – Каспар пожимает плечами. Его ленивый взгляд все вылавливает из толчеи «грабенских нимф», поочередно раздевая каждую. – Лицемерные, пошлые, разные… – Каспар поворачивается к Людвигу. – Ты подтвердишь, да? Ты же ездил к нему, и он тебя выставил.
Порыв – кивнуть, но в памяти вспыхивает разговор с Сальери, тот самый, у огня. О мальчике и девочке, об ударах, принятых на себя. Оживают и воспоминания более поздние: о моцартовских памятных вечерах, где собирается столько людей; о кольце на пальце Сальери; о «Волшебной флейте», герои которой победили тьму, в отличие от автора.
– Я не могу судить о нем по одной встрече, – лаконично отзывается он, а дальше что-то неразумное тянет за язык: – Да и про меня тоже говорят «выскочка». Ты можешь добавить «выскочка со свекольной грядки».
Каспар глаз не отводит, но рот его мрачно сжимается, а на щеках проступают слабые красные пятна. Людвиг медленно делает глоток пива, не прерывая немого поединка, – и за эти секунды в голове проносится новая вереница хлестких мыслей.
Брат видит его насквозь, видит самое отвратительное. И не отмахнешься: порой Людвиг, чье окружение почти сплошь – аристократы, действительно ловит себя на мысли «Вот бы быть как они». Речь не о деньгах – их можно заработать; не о дворцах – он уже понял, что превращает в свинарник любое жилище и его не спасет даже ватага прислуги. Речь об ощущении. О чем-то невидимом в осанке и глазах, в жестах и интонациях, во всем. Это не описать никаким словом, кроме «порода»; человеческое достоинство оно унижает, но так и крутится на языке. Да, есть те, в ком «порода» необъяснимо проступает без титулов, вроде того же Сальери, но кто знает, от кого ведет род его отец? Людвиг – не Сальери. Рядом с ван Свитеном, русским послом Разумовским и прочими меценатами, а прежде и с Максом Францем, при его кажущейся простоте, это давило и угнетало. Грядка со свеклой. Будь у Людвига герб, там была бы она, никаких лилий, лир и скрещенных мечей. Что за лицемерие: разве совместимы симпатия к революциям и мечта о титуле? А впрочем, есть же Бонапарт…
– Все мы – такие выскочки, – упрямо продолжает Людвиг, немного воспрянув. – И стоит этим гордиться.
– Это мне нравится! – одобряет Каспар, и они выпивают снова. – За выскочек!
Вокруг уже потише: опустело несколько столов, ускользнули куда-то «нимфы» – все, кроме одной. Та белокурая сидит в небольшой компании потрепанных военных, почти скрытая их крепкими плечами. Низко склонилась над чаркой вина, грустит и слушает чужой смех. Под стук ножей братьев Людвиг посматривает на нее, снова думая о Безымянной, о своем пугающе зорком ученике, о сне пятилетней давности – где дева и ребенок лежали на грязной постели, а он, Людвиг, глядел на них скорбно и вожделенно. Ужасный вечер, ужасный, какое-то скомканное и душное крещендо, скорее бы…
– Кстати, братец, – снова вырывает его из мыслей Каспар, – а что насчет Сальери?
– Сальери?.. – сами повторяют дрогнувшие губы.
Интонация едкая, насмешливо-любопытная, и Людвиг настороженно вглядывается в лицо Каспара. Там снова играет мирная невинная улыбка, а вот по блеску глаз ясно: разговор возвращается в сально-меркантильное русло. Так и есть.
– Нет-нет, я хорошего о тебе мнения и не имею в виду ничего предосудительно-древнегреческого, но у него, я слышал, растут хорошенькие дочки… это правда?
– Карл! – шикает Николаус, и Людвига передергивает от обращения второй раз.
– Что с того? – почти угрожающе уточняет он, но быстро меняет тон на притворно-опасливый: – Определенно, я расстаюсь с последней мыслью ввести тебя в его дом.
Каспар хмыкает.
– Больно надо. Я-то соблюдаю золотое правило «кто дружен с ван Свитеном, не дружен с Сальери, и наоборот».
– Это выдуманное правило… – начинает Людвиг, досадливо прикладывая руку к занывшему животу.
– Но меня оно устраивает. – Каспар пожимает плечами. – А вот с тобой иначе. Смотри, Иоганну нужно подыскать себе дочку аптекаря, а тебе…
– Да с чего ты взял, что нам нужно кого-то подыскивать? – опять включается в разговор Нико, скучающе подперев подбородок рукой. – Бога ради… у всех у нас разные цели и пути.
– Я не влюблен ни в кого из них, – без паузы продолжает Людвиг, не сводя с Каспара глаз. – И вряд ли влюблюсь, они росли буквально на моих глазах. Пожалуйста… – он делает еще глоток пива, – давай не будем обсуждать их как гусынь, несущих алмазные яйца…
– А в кого же ты все-таки влюблен? – Каспар щурится, и Людвиг недоуменно осекается.
– Что?!
– Карл! – снова одергивает его Николаус, на этот раз строго.
– Она не хочет за тебя выходить, правильно? – ерзая, не унимается брат, в которого будто вселился бес. – Аристократка? Графиня-ледышка? Из этих Брунсвиков, или как их, которых ты учишь? Или Эрдеди?
– Да оставь меня в покое! – Вспылив, Людвиг вскакивает и, как назло, снова упирается взглядом в печальную проститутку за дальним столом. – Мне есть о чем подумать сейчас, и это не юбки! – На него подозрительно косятся другие посетители, он, глубоко вздохнув, садится. – Посмотри на меня… Я с трудом забочусь о себе. Куда мне заводить семью?
Он лукавит: все не так плохо. Денег хватит, чтобы прокормить кого-то, не графиню, конечно, но особу с более скромными запросами. С другой стороны… даже будь он влюблен в Катарину или любую из детей Сальери, гордость не позволила бы ему покушаться на их немалое приданое. Охотников и так немало. Хорошеньких темноглазок, добросердечных и прекрасно играющих на фортепиано, осаждают раз за разом – и разбиваются о строгость их отца, готового поощрить искренние чувства, но не искреннее стяжательство. Что же касается Брунсвиков, трех сестер из еще одной семьи, с которой Людвиг общается… там титул. Нерушимая преграда. Впрочем, о чем речь? Людвиг не думает в ту сторону. Каспар ошибся во всем, кроме главного.
«А в кого же ты влюблен?..» Какая жестокая месть за давние обиды.
– Тут ты прав. – Брат идет наконец на попятную, вздыхает. – Мне ли не знать, что, когда в голове резвятся музы, не тянет даже лишний раз постирать штаны. Немного скучаю по этим временам, я-то выдрессировал свое вдохновение…