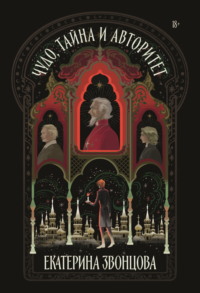Полная версия
Письма к Безымянной
Постепенно я перестал ждать. Но у меня возникла – уже несколько недель спустя – эта глупая блажь писать тебе письма, много-много, то начиная их с середины, то не заканчивая. Я стал зависим от них, как тяжелобольной – от кровопусканий, и спасительных, и мучительных. И вот я пишу – пишу о нас с самого начала, со встречи на берегу, в тщетной попытке заново прожить прошлое и так вернуть настоящее. Я пишу, и все эти послания я, за неимением имени, адресую одинаково: «мой друг», «милая». Нередко хочется написать иначе, нежнее, но мне претит гордость. Да, ты не получишь этих посланий, нет способа отправить их. Но ты знаешь. Я верю, знаешь.
Письма я не глядя швыряю в освобожденный ящик стола, одно за другим. Их накопилось, наверное, около пятидесяти. Ни одно не получило ответа. И ни одно не имеет смысла.
Пожалуйста, прости меня.

1801
Мышиный король
– Чудесная, bello, bravo, sorprendente! – И от голоса ее в воздухе разливается фантомная сладость. – Играй, играй дальше, еще!
Поют на улице птицы, резвясь в мраморных купальнях-кубках; шелестит листва. Солнце через окно бросает на резную мебель пригоршни света, золотя каждый завиток, каждую львиную лапу и сфинксов лик на шкафу, диване, часах. Само это место, особняк в излучине Дуная, в роще молодых деревьев всевозможных пород, Людвиг про себя зовет «дом Солнца». На солнце здесь похожи все и все.
Сидящую рядом зовут Джульеттой, и она лучшее, что случилось с ним за год. Глаза ее цветом – патока, волосы – шоколад, кожа – нежная кофейно-сливочная пена. Никогда у Людвига не было таких учениц, эта принцесса будто соткана из счастья и карамели. И никогда он не думал, что сможет радоваться близости с подобным существом.
– Играй, играй… – завороженно повторяет она, видя, что он отвлекся, – повторяет с придыханием, округляя розовые губы. И он подчиняется, взлетают в воздух новые аккорды, тяжелые и медленные, будто спорящие с самим ясным днем. – И… давай ты назовешь ее Лунной? Ты ведь еще никак не назвал, да?
Джульетта, Джульетта… имя сразу, уже при знакомстве, показалось ему знамением; кажется и теперь, когда знакомство стало близостью, ведь именно это имя он произнес последним, когда… впрочем, все забыто, ничего не было. Ничего и никого.
– Лунной? – рассеянно повторяет он. – Но ей совсем не подходит.
Может, и подходит, но лучше слукавить вот так, чем признаться: оно банальное, даже в чем-то пошлое. Какое отношение небесные светила имеют к земной музыке? Но обидеть Джульетту он не хочет и мирно улыбается, слыша в ответ:
– Зато оно такое же красивое, как она!.. Подумай, а?
Улыбаясь, Людвиг поворачивает к ней голову.
– Но и вполовину не как ты.
Джульетта накручивает на палец локон и встречает комплимент – столь же банальный и пошловатый, как предложенное ею название, – веселым кокетством.
– Ах, как ты мил сегодня!
Она часто слышит подобное, чаще кузин, хотя они тоже недурны. Но она особенная. Это из-за ее бодрости, звонкого голоса и улыбки светится весь дом. Дом тех самых Брунсвиков, где летит к разгару лето и где на этой неделе собралось потрясающее общество.
– Пойдем пить кофе, – вдруг зовет Джульетта и спрыгивает с банкетки. – К нам, между прочим, приехал на выходные твой обожаемый герр Сальери и привез много-много засахаренных фиалок и пирожных!
Людвиг улыбается и встает. Он не расстроен, что она забыла о ребяческом «Играй!», хотя полминуты назад сияла восторгом. Да, сочинение не дослушано, но, во-первых, оно все равно еще сырое, во-вторых, ветреность в природе Джульетты, а в-третьих, есть вещи, которые важнее нот. В этом году он понял это как никогда. И только одно колет сердце.
– На выходные… – медленно повторяет он, запуская пальцы в волосы и отводя их с глаз. – Какой сегодня день, Джульетта? Что-то я потерялся.
Она хлопает в ладоши и рассыпает по комнате звонкой хохот.
– Суббота, дурачок мой гениальный! Субботнее утро!
Суббота. Лишь суббота. И некого ждать, все и так здесь. Людвиг предлагает Джульетте руку и ведет ее на террасу. Желание увидеть Сальери ведь тоже не может ждать. С ним станет еще легче.
Пожалуй, Людвиг рад тому, как переменился. Пожалуй, это хорошо. Прежде его всегда спасало одно: горюя, он находил убежище в музыке, но в тот год – год разлуки, крушения – музыка только бередила рану. В плотных тучах, где обида сменялась надеждой, а надежда болью, Людвиг медленно терял себя. Через силу завершил новую симфонию и быстро в ней разочаровался, домучил заказы для нескольких театралов и вскоре оказался готов сжечь и композиции, и сами театры. В душе царил ад, с которым он просто не знал, к кому идти. Спал плохо, по субботам обращался в камень. В другие дни бывал резок и отчужден.
Окружающие не допытывались: явно считали, что «типичная бетховенская угрюмость» не стоит тревог. Друзья и покровители старательно делали вид, что с Людвигом не происходит ничего, вовлекали его в привычную рутину, звали на балы, посылали однотипные записки с вопросами о здоровье и новостях. Так же однотипно он отвечал: все в порядке. Музыка пишется, жизнь живется. Даже братья… братья вели себя так, будто не видят перемен, а может, правда не видели: оба были заняты своими мечтами.
Двое все же что-то заметили, хотя виду не подали: малыш Карл, который на каждом занятии старался чем-нибудь позабавить Людвига, и, конечно, Сальери, начавший чаще звать его в свой дом. С последним оказалось сложно: вид этой счастливой семьи причинял боль и будил зависть, а после паскудных намеков Каспара стало сложнее оставаться в обществе Катарины, Марии и Франчески, даже самые непринужденные разговоры с ними приобрели оттенок неловкости. Но Людвиг старался не пренебрегать приглашениями, чтобы, не дай бог, не порушить и эту хрупкую связь. В один из подобных вечеров, сидя у знакомого камина, он и проговорился, что чувствует себя…одиноко, именно так. Он впервые произнес это слово и позволил ему себя пронзить, оно загорчило на языке, а в глазах вспыхнуло постыдным влажным жаром. Людвиг быстро потер веки, а Сальери, не изменившись в лице и благо не ринувшись с утешениями, тихо спросил: «Возможно… вам стоит для начала меньше сидеть над листами и больше преподавать? Мы все чувствуем себя живее, когда помогаем другим».
Людвига совет огорчил, если не сказать – напугал. Ученики у него были, да, но горстка: несмотря на все успехи, он по-прежнему побаивался роли наставника. Более того, с ростом собственного мастерства страх тоже рос: казалось, сам Людвиг, из-за сущей ерунды бегающий советоваться к старшим друзьям-композиторам, никогда не слезет со школьной скамьи. Но те, кто просил его взгляда на сочинения, явно думали иначе, и даже начавший расползаться слух о «таинственном недуге Бетховена» не отвращал их, как не отвращала нелюдимость. Они настаивали, подбираясь все ближе. В большинстве случаев он их прогонял либо устраивал проверки вроде той, которую с честью выдерживали только дьяволы вроде Карла. Все это Людвиг и озвучил, но Сальери неожиданно утешил его простым шутливым доводом:
– Поверьте, мой друг, они боятся вас куда больше, нежели вы их. И то, что вы будете учить их, не значит, что на себе как на ученике вы ставите крест. Все хорошие учителя постоянно у кого-то учатся, у учеников в том числе. Вы разве не знали?
И Людвиг послушался: бросил прятаться от общества, перестал сторониться сближений. Стал соглашаться на наиболее лестные просьбы об учительстве. Среди его подопечных затесались дети возраста Карла, ровесники, старики и – удивительно – более всего девушек. Увеличил он и количество часов с теми, кого взял прежде. И правда вскоре почувствовал себя лучше, особенно когда поставил некоторые занятия на священную прежде субботу.
Сестер Брунсвик – Шарлотты, Терезы и Жозефины – в жизни Людвига тоже стало больше. И хотя поначалу он старался сохранять с ними дистанцию, это оказалось невозможно. И девушки, и их мать полюбили его, стали приглашать вне уроков. Казалось, они как раз чувствуют флер тоски, сгущающийся вокруг учителя, и стараются его развеять. Даже когда Жозефина – средняя сестра, разумнейшая и обаятельнейшая, – вышла замуж за Дейма, печально известного в Вене графа-скульптора и короля автоматов[74], дружба лишь окрепла, ведь эпатажный граф тоже проникся Людвигом. Возможно, этому в первую очередь способствовал восторженный отзыв последнего о механических соловьях – тех самых, из здания Общества. Еще при знакомстве, едва речь зашла об увлечениях Дейма, Людвиг вспомнил эту устрашающую, но великолепную безделушку, и граф, с удовольствием вздернув хищный нос, сообщил: «Мой, мой подарок, и к конструкции я приложил руку… грозные подарки в грозные времена, да-да!» Таких вещиц граф, оказывается, собрал множество и для некоторых вскоре заказал Людвигу музыку. Общение с семейством стало регулярным, но оставалось пустым – пока не приехала она.
Карамельная принцесса. Джульетта Гвиччарди, двоюродная сестра Брунсвиков.
Когда их представили друг другу, искры вроде не вспыхнуло. Людвиг, разглядывая темноволосую, подвижную девушку, подумал об одном: она напоминает неаполитанца,Патрокла, чье солнечное сияние плавило лед глаз столь же чужого русского Ахилла. Где они теперь, когда военные коалиции сменяют одна другую? Вместе или по разные стороны? Все так запуталось на этом континенте, полном жадных рук и пустых голов… Вечер у ван Свитена вспоминается как из прошлой жизни – похороненная иллюзия, сон, устаревший мотив… И вот теперь она. Улыбчивая девочка, которая, накручивая на палец волосы, спросила: «А со мной вы позанимаетесь? Я тоже хочу играть!»
Он согласился: три ученицы, четыре, какая разница? Все равно это не занятия, а так, курам на смех. Беседы и дурачества, перебор аккордов, за которым он едва успевает шикнуть на Терезу, неправильно ставящую руки, и объяснить Шарлотте, как брать ту или иную ноту, чтобы не сорвать горло. В головах этих девушек лето, в его голове – зима. Так чем помешает карамельная принцесса, что поменяет? Как оказалось, многое.
На второй день Джульетта принесла ему рубашку. Просто села за фортепиано рядом, положила свернутую ткань на колени и строго сказала:
– Ваша износилась. Возьмите, я сама вышила.
На рубашке были пестрые цветы, выглядела она странно, но не без вкуса. Первым желанием, конечно, оказалось бросить ее на пол, возмутиться, поинтересоваться, кем маленькая богачка возомнила себя, чтобы дарить чужому человеку одежду. Но что-то помешало – возможно, мысль, что Безымянная не делала подобного, а возможно, и то, что как раз была суббота. Может, ветте видела все, стоя призраком где-нибудь в углу? Тогда пусть ей будет больно, так больно, как только может смертное создание сделать… бессмертному? Фантомному? И Людвиг улыбнулся.
– Спасибо. Мне никто, никогда не дарил рубашек. Это огромная забота. А вы, кстати, похожи на прелестную розу, читали у Гете? «Роза, дивный алый цвет…»
Черта эта – тяга к голодным птенцам, обиженным детям и неприкаянным мужчинам – в Джульетте достигала поистине пугающих высот. Рубашки она пыталась дарить каждые несколько недель, и Людвиг больше их не брал, хотя это часто оканчивалось спорами и обидами. Но он смирился: Джульетта просто была доброй и, кажется, хотела сиять на весь свет. Пусть попробует. Так или иначе, благодаря ей лето теплое, ведь каждое утро карамельная принцесса сама повязывает Людвигу шейный платок, иногда, дурачась, целует в лоб и зовет Мавром, но не как мальчишки в детстве. Она правда вышивает фантастические цветы разных расцветок – на одежде, занавесках, наволочках. Она дала имена всем деревьям в роще – в честь домочадцев и тех, с кем здесь подружилась; «свое» дерево есть и у Людвига. И хотя назвать сонату Лунной – глупость, он дал бы такое обещание, попроси Джульетта об этом. Но обещания ей не нужны.
– Как бы я хотела, чтобы ты скорее ее дописал! – говорит она, пока они идут по коридору. Все-таки вспомнила.
– Я допишу, – уверяет он, не признаваясь в самом страшном преступлении, связанном с этой вещицей. – Допишу, и она будет твоя.
Преступник, преступник, который и ее хочет сделать соучастницей…
– Как здорово!
Он преступник. А еще он отчаянно надеется, что успеет, прежде чем полностью потеряет слух; прежде чем карамельная принцесса перестанет считать это «просто рассеянностью». Он молит об этом и Небо, и Ад, но сомневается, что его слышат.
Правда проста, мой друг, проста и гадка: я краду у одной, чтобы отдать другой, на деле ничего не отдавая. Краду у тебя, а обманываю Джульетту. Эта соната, удивительно угрюмая даже для меня вещь, – зов к тебе, плач по тебе, память о тебе; тобой она началась и тобой кончится. Знай это, просто знай, жестокое наваждение. Знай, что, играя ее, я глотаю яд и наслаждаюсь каждым глотком; замерзаю, слепну, падаю в ночь. Ведь как ни банально называть сочинения в честь небесных светил, моя соната правда подобна холодной луне – как и твой лик. Слышишь ли ты ее, когда мы с Джульеттой нежимся на солнце, слышишь ли ты, как мы смеемся, слышишь ли ты стенание из-под моих пальцев? Если бы я знал, что слышишь…
Я нашел новую принцессу, мой друг. Я с ней счастлив.
Как же я несчастен.
Вечером они долго гуляют по саду, прячась в густой прохладе от других обитателей дома. Джульетта срывает понравившиеся цветы, прижимает их к груди, а Людвиг наблюдает за каждым взмахом ее загнутых черных ресниц. Мистическое создание, ей-богу; будто даже не ступает по траве, а танцует. Собственная поступь в сравнении с этим – что у каменной статуи. Людвигу никогда не хватало легкости, и теперь чужая захлестывает его с головой.
– Скажи! – Джульетта вдруг останавливается. Поворачивается на пятках, тычет его пальчиком в грудь. – Ты посвящаешь музыку всем ученицам?
Поймала миг для откровенности, улыбается, привстав на носки; к груди, подчеркнутой легким голубым платьем, прильнули розовые бутоны, дельфиниумы, крошечные лилии. Лепестки трепещут; Джульетта дышит часто: взволнована, как ни делает озорной вид. «Я особенная? Много я значу для тебя?» – смело и беззащитно вопрошают ее глаза.
– И ученикам. И учителям! – коварно отвечает Людвиг и целует ее в щеку. – Вот!
Во-первых, это правда: одному Сальери посвящено уже три сонаты. А во-вторых, что-то внутри, угрюмое и темное, снова рычит: «Преступник, лжец, вор». Наверное, это совесть. Стыд. Людвиг мог бы сказать правду: «Ни для кого никогда я не сочинял ничего, что столь сильно разрывало бы мою душу». Но ведь правда краденая.
– Вредный и ветреный! – Джульетту, впрочем, устраивает и прозвучавший ответ, и поцелуй. Приняв их за «Да», она подхватывает Людвига под локоть и тащит дальше, на боковую дорожку, мимо зарослей отцветающей белой сирени. – Пойдем, пойдем туда!
Людвиг покорно идет, с нежностью рассматривая ее курчавый затылок в ореоле жемчужных шпилек. Прыгают локоны, сжимают руку тонкие пальчики, почти не приминается трава под бархатными туфельками. Джульетта, Джульетта… как бы ему хотелось быть для нее Ромео, а не Командором. Сочинить что-то, что действительно было бы о ней.
Милая.
Не водись с Тайным народом.
– Сгинь, пропади, – шепчет он одними губами, но Джульетта то ли слышит, то ли чувствует: оборачивается.
– Что?..
– Это я комарам, – откликается он, помахав перед лицом второй рукой.
– Дурачок, они тебя не понимают! – фыркает Джульетта и снова тащит его вперед. – Я думаю, они как иностранцы: у них свой язык.
Сирень не просто отцветает – она уже хрупка настолько, что от любого движения осыпается на волосы и на плечи. Соцветия еще смутно пахнут, напоминают хлопья снега, и Людвиг не пытается их смахнуть. Джульетта ведет его дальше. У нее определенно есть цель.
Когда они минуют узкую беломраморную скамейку, ножки которой сделаны в виде крайне уродливых львов, – рукой Дейма, – Джульетта бросает там букет. Так трепетно собирала… так легко избавилась. Понуривают головки дельфиниумы, чуть не плачут розы. Одна лилия пытается сбежать, упав в сторонку.
– Не хочешь украсить ими комнату? – удивляется Людвиг.
– Нет, – капризно отзывается она. – Скучные. Их и вокруг слишком много!
– Зачем тогда срывала? – мягко уточняет он, подбирая пестрый букет.
– Не знаю! – Она дергает плечиком, потом улыбается. – Ладно, подари тете или Пепе[75]. Они будут рады. Или нет, давай Терезе, она дурнушка, ей почти не дарят цветов!
Дурнушка? Неправда, Тереза, несмотря на легкую сутулость, мила, но Людвиг не спорит. Джульетта вроде бы дружна со всеми кузинами, но кое-чего ей не скрыть. Она считает Терезу слишком «сухой» для своих лет. Жозефина тоже не хохотушка, но с ней иначе: за ее строгостью прячется малышка, повзрослевшая слишком рано; такова печать многих юных особ, выданных замуж с излишней разницей в возрасте. Жозефина преображается, когда поет и играет с Людвигом; Жозефина осторожно расцветает прямо сейчас, у него на глазах, когда ее подневольный брак медленно, но верно обращается в союз по любви. Дейму сорок восемь, но духом он истинный Оберон; у него лихая седеющая грива, тяжелые загадочные улыбки и размашистые жесты вояки. Свою Пепе он ваяет в скульптуре, собирает ей механических птиц, сам срезает букеты – всегда белые, всегда пьяняще-душистые и аккуратные. Он добр и терпелив, каждым поступком будто пытается выманить назад восторженную девочку, которую когда-то встретил в собственной галерее гофмановских диковин, – и у него получается. Позавчера утром Людвиг видел, как они танцуют в зале, полном механических органчиков, в огромном пятне солнца, под какую-то из фантазий Моцарта. Тереза же… Тереза словно сторонится всех на свете юношей и мужчин, хотя в доме их полно, один другого интереснее. Даже Людвиг чувствует ее нервозность, просто склоняясь ближе и помогая правильно поставить пальцы на клавиши. Зато Тереза восхищена Плутархом и Плинием, «Тараром» и Походом женщин на Версаль. Однажды, выпив слишком много игристого, она призналась, что у нее всего две мечты: «Сделать мир мудрее» и «Совершить подвиг». «А замуж?» – спросила такая же подгулявшая Джульетта, но Тереза, наградив ее тем самым «сухим» взглядом, отрезала: «Никогда не пойду за того, кто хочет иного»[76]. Возможно, ей стоило бы родиться мужчиной – проще жилось бы в этой семье. Людвиг тогда глядел, слушал украдкой и недоумевал: как может роднить этих двоих хотя бы одна капля крови?
– Да… Терезе безопаснее, – старается Людвиг обратить все в шутку. – Граф все-таки ревнивец, с него станется меня поколотить. Или набить шестеренками, как автомат.
Хихикнув, Джульетта прибавляет шагу; Людвиг идет следом, думая – с умилением и недоумением сразу – как же она переменчива, как неверна порывам и как резко судит о людях. Сущий ребенок, а еще назвала ветреным его! У них было столько веселых минут за эти месяцы, столько шуток и перепалок, столько сплетен. Каждая встреча – праздник; все время звенит в ушах ее игристый смех. В этом она совсем непохожа на…
– Исчезни, – снова шепчет он.
В этот раз Джульетта не оборачивается: уже отвлеклась и, скорее всего, вообще забыла про беседу.
– Во-от! – Она показывает вперед. – Смотри, какие красивые! Они почему-то всегда оживляются под вечер! Наверное, из-за этих мерцающих жучков!
Они незаметно подошли к пруду, над которым действительно мечутся желто-зеленые искорки – светляки. Они не спускаются к густой сине-зеленой ряби – витают на расстоянии, словно дразнясь, а вода волнуется в ответ: в толще снуют крупные серебристые силуэты. Рыбы. Иногда они тщетно пытаются достать светляков. Пруд действительно полон рыб, есть даже ощущение, что им тесновато в такой толпе.
– Не знал, что их столько… – растерянно говорит Людвиг: у пруда он бывал редко.
Раздается плеск – прыгает и, не поймав светлячка, падает назад очередной силуэт. Сердце легонько сжимает эхо слов: «…жалкий карп». Да сколько еще мучиться? Прошел почти год.
Джульетта садится на траву, Людвиг, поняв, что ради этого зрелища она и пришла, вздыхает и следует ее примеру. К чему пустые сетования? У воды красиво, светляки – живое созвездие, рыбы – армия крестоносцев в серебряных кольчугах. И вот рыцари глядят печально на звезды, загадывают вернуться домой живыми, а потом…
– У нас в доме бывал ученый старичок из Генуи, – бодро заговаривает Джульетта, – так вот, он считает, что рыбы глупые-глупые: не умеют ни соображать, ни помнить. Думаю, он прав. Смотри, как они открывают рты!
И она, дернув Людвига за рукав, чтобы привлечь внимание, передразнивает рыб: округляет губы, выпучивает глаза. Она чудо как хороша, даже с такой гримаской. Людвиг смеется почти искренне.
– А что ты знаешь о них? – интересуется Джульетта строго. – Люблю ученых мужей…
Еще одна рыба прыгает за светляком, падает, сверкнув чешуей и плеснув хвостом. Людвиг скользит взглядом по расходящимся в этом месте кругам.
– Я… – Он осекается. Он хорошо помнит, как посмеивались знакомые над той самой легендой. Но Джульетта – особенная. И разве это – вечер, свет, серебро – не хороший момент, чтобы еще приоткрыть ей сердце? Поколебавшись, он произносит: – А я слышал, некоторые из них потом становятся драконами.

Он со страхом ждет ответа, но глаза Джульетты ярко, по-детски взблескивают.
– Как это? – жадно, с любопытством спрашивает она.
– Пройдя долгий путь против течения реки, преодолев много препятствий, а потом прыгнув к солнцу, – поясняет он, но Джульетта хмурится. Сует в воду руку, болтает пальцами, отдергивается, прежде чем рыбы бы ею заинтересовались.
– Тут нет течения, – сообщает она. – Это же прудик.
– Да, не всем дарованы реки, – отзывается Людвиг и сам пугается вдруг своего тусклого голоса и подтекста слов.
Не всем дарованы реки. В предыдущие годы он был уверен, что давно отыскал свой бурный поток, что день за днем понемногу преодолевает его и однажды…
– Они так и умрут, никем не став. – Джульетта пожимает плечами без тени жалости. – И неудивительно. Они правда выглядят глупыми. И думаю, им вполне хорошо тут. Когда ты глупый, ты меньше мучаешься, меньше куда-то стремишься, тем более против течения…
Такая юная, хохотушка, а говорит раз за разом вещи, от которых тошно, тоскливо, – правдивые и ужасные в своей невинности. Отчего-то Людвиг опять вспоминает Терезу, ее порозовевшее от шампанского, но не потерявшее серьезности лицо, ее две мечты…
– Да. – Он кивает, старательно отгоняя мысль: а насколько глупа Джульетта, точнее, что она сама об этом думает? Реки ее влекут или пруды?
Еще одна рыба пытается поймать светлячка, падает в темную гладь. Людвиг, вздохнув, отворачивается, смотрит в лицо карамельной принцессы, ожидая найти там задумчивость – отражение собственного ненастья, – но находит лишь безмятежную улыбку, с каждой секундой расцветающую ярче. Джульетте, похоже, нравится философская беседа. Или просто она уже отвлеклась на что-то свое.
– А вообще… – медленно говорит она, повернув к Людвигу голову, – ты выдумываешь такие удивительные вещи! Ну прелесть же! – Она касается его пальцев в прохладной траве, сжимает руку горячей ладонью. – Невероятные! Потрясающие! Спасибо тебе!
– Но…
«Это не выдумка, это мечта, моя!» – слова приходится удержать на языке.
– Как твои мелодии, даже лучше! – продолжает Джульетта.
– Но… – Это точно не то, что он хотел бы услышать.
– И все-таки хорошо, что рыбы остаются рыбами. – Она морщит нос. – Не хочу драконов в своем саду.
И она смеется, опять болтая в воде второй рукой, – на этот раз явно дразнит рыб. Кудряшки падают на лицо, смех пугает светляков, небо наливается синью и расцветает звездным садом. Похоже, Джульетта уже выбросила легенду из своей очаровательной головы, там много более интересного. Людвиг вздыхает. К чему огорчаться? Чего он требует, что хочет услышать в ответ на вещи, о которых редко говорят в свете? Карпы… драконы. С карамельной принцессой можно поболтать и о чем-то ближе к ее миру. И он спрашивает:
– Остались в твоей роще свободные деревья? Надо бы назвать одно в честь Сальери.
Все впереди, у них у обоих. А пока он может хотя бы попытаться быть счастливым.

Маки цветут удушливым багрянцем прямо на воде. Зоркие глаза могут увидеть: целое поле их простирается от гаитянского зеленого берега, через всю мертвенную синеву Карибского моря, по иссеченному весенними дождями континенту и дальше – до Парижа. Маки отмечают путь, качая головами на ветру.
Маки цветут особенно густо у грязно-серого замка в промозглых горах.
– Поверь, мы хотим лишь мира и безопасности. Но нам не нужны враги за океаном.
– Похоже, вам просто не нужны свободные люди, генерал. Вы их боитесь. А скоро ты уже сам забудешь, как освободил собственный народ…