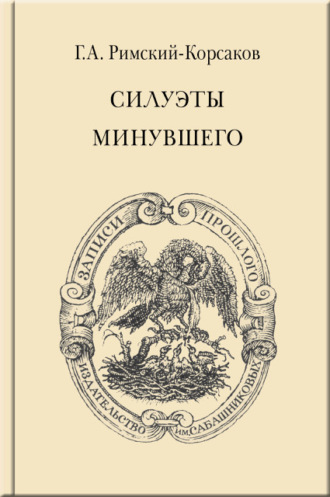
Полная версия
Силуэты минувшего
Учился Алехин отлично. Когда и как он готовил уроки, не знаю. Но обладая исключительной памятью, ему достаточно было на перемене взглянуть в учебник, чтобы запомнить заданный урок. Конечно, никаких объяснений преподавателей он не слушал, будучи углублен в свои шахматные ходы. И надо заметить, что преподаватели не мешали ему в этом, хотя иногда и позволяли себе иронические замечания. Помню как-то классную работу по алгебре. Все юнцы притихли. Одни ученики, раскрасневшиеся, потные, взволнованные, поскрипывая перьями, торопятся скорее сдать письменную работу. Другие – бледные, растерянные, оглядываются по сторонам, всем своим жалким видом взывая к товарищеской помощи. Вдруг Алехин стремительно встает и с сияющим лицом молча обводит класс глазами и в тоже время, по всегдашней привычке, крутит левой рукой клок своих мочальных волос, сбившихся на лоб.
«Ну, что, Алехин, решили?», – спрашивает его преподаватель Бачинский.
«Решил… я жертвую коня, а слон ходит … и белые выигрывают!»
Класс содрогается от смеха. Хохочет в свои длинные усы всегда сдержанный и корректный Бачинский.
У нас в классе учились дети, родители которых принадлежали к самым различным общественным группам московского населения. Были купцы: Морозов и Прохоров; аристократы: Долгорукие и Бобринские. Дети профессоров и адвокатов – Шершеневич, Гартунг; представители революционной интеллигенции – Лобачев и Клопотович. Но преобладали дети среднего класса, сыновья мелких служащих, чиновников, врачей и др. Алехин был сыном очень состоятельных родителей. Отец – крупный землевладелец Воронежской губернии, предводитель дворянства. Мать его была из семьи известных московских фабрикантов Прохоровых. Но у самого знаменитого шахматиста не было во внешнем облике ничего от самодовольного московского купчика, ни, еще меньше, от родовитого помещика-дворянина. Скорее всего его можно было принять за сына небольшого чиновника, может быть, сына бухгалтера или мелкого торговца.
Алехин, однако, не любил, когда искажали его дворянскую фамилию. Так, когда наш «батюшка» о. Розанов, вызывая Алехина отвечать урок по «закону божию», постоянно называл его – «Олёхиным», с крепким ударением на букву «ё», то будущий чемпион мира также неизменно поправлял почтенного служителя церкви, говоря: «Моя фамилия, батюшка, Алехин, а не Олёхин».
К концу учебного года у меня с Алехиным отношения обострились. Меня стала раздражать шахматная мания Алехина и то, что у меня не было нормального соседа по парте, с которым я мог бы делиться повседневными мелочами нашего школьного быта и обсуждать более серьезные темы нашей молодой жизни. К тому же, безусловно, Алехин был беспокойным соседом. Для своих шахматных занятий он не стеснялся занимать столько места на парте, сколько ему хотелось, так что у меня с ним шла упорная борьба за «жизненное пространство». Мои учебники постоянно попадали в ранец к Алехину и получить их от него было крайне трудно, и мне приходилось покупать себе новые. Он говорил, что берет их домой по рассеянности, случайно. Однако когда эта случайность действовала на протяжении целого года, то давала мне основание считать ее проявлением злой воли. Я не помню, чтобы у Алехина был бы какой-нибудь близкий товарищ. Я не помню, чтобы он принимал участие в жизни класса, в разговорах на волнующие нас, гимназистов, темы. Я никогда не слыхал, чтобы он ходил в театр или бывал в концертах, на выставках картин. Не видел, чтобы он читал какую-нибудь книгу. А между тем, многие из нас зачитывались сборниками «Знания», где печатались Горький, Л. Андреев, Вересаев, Чириков, Бунин. С волнением читали Куприна, Арцибашева, Амфитеатрова. Увлекались «Паном» Гамсуна, Ибсеном, Шницлером. Конечно, перед этим прочитаны были все русские классики и хорошо усвоены Гюго, Золя, Флобер, Мопассан. Конечно, глубоко презирали Вербицкую и Нагродскую, обожали Чехова.
Были у нас и восторженные почитатели Большого Театра, Художественного, Малого. На переменах спорили о новой роли Качалова, о новой постановке «Много шума из ничего» в Малом, о поездке Шаляпина на гастроли в Италию, и о многом другом. Завидовали тем, кто носил такие же фетровые боты, как Собинов, и такую меховую шапку – лодочкой – как Качалов. Были такие ученики, у которых в ранце было больше фотографий балерин, чем учебников…
Не распространял Алехин и билетов по знакомым на концерт композитора Ребикова, сбор с которого, как шептали на ухо каждому, должен был поступить в кассу московского комитета РСДРП. Этот концерт организовала семья С.Г. Аксакова7, внука писателя, сыновья которого учились в нашем классе.
Не писал Алехин и писем Л.Н. Толстому с просьбой разрешить вопросы, тревожащие тогда многих юношей, стоящих на пороге мужской жизни. Не сидел Алехин на подоконниках нашего гимназического зала и не отпускал по адресу девушек, идущих мимо гимназии, словечки, которые, к счастью, они не могли слышать. Не посещал Алехин и наш гимназический «клуб», где в перемену, погибшие в общественном мнении ученики, наспех жадно глотали дым папирос, при этом рассказывая непристойные анекдоты. Мимо всех этих больших и малых явлений школьной жизни Алехин прошел, не взглянув на них, и может быть, и не заметив их.
Наступил декабрь. Гимназическая молодежь старших классов не могла оставаться равнодушной к переживаемым страной революционный событиям. Когда на улицах Москвы раздались выстрелы, занятия в гимназии прекратились сами собой. Это не мешало нам, гимназистам, встречаться в домашней обстановке и быть в курсе событий. Так мы знали, что для того, чтобы долговязый верзила Николай Бобринский не попал на студенческую сходку в университете, мать его – известная общественная деятельница В.Н. Бобринская, заперла его, а он все же удрал из дома через форточку. Мы знали, что наши товарищи Гартунг и Носяцкий ездили на митинг в Техническое училище и прорывались через кордоны хулиганов из «черной сотни». Мы знали, что Клопотович хранит прокламации. Он же предупредил меня, когда я услышу где-нибудь на улице или в общественном месте команду: «Боевая дружина, вперед!», то я должен буду выйти вместе с другими вооруженными дружинниками вперед и построиться. Это сообщение меня очень смутило. У меня не было никакого оружия. Я мечтал достать себе браунинг, какой показывал мне из-под полы наш знакомый художник Б.Н. Липкин. И, наконец, все же я достал себе «оружие». Это был крошечный детский пистолетик, который стрелял мелкокалиберной круглой пулькой. Его полезное действие было ничтожно мало. Убить им человека было невозможно, но покалечить, особенно себя, было не трудно. И стоил он … один рубль 50 копеек. К сожалению, мой пистолет не принял участие в первой русской революции. На углу нашего Никольского переулка и Сивцева-Вражка, перед домом, где жил известный знаток русского языка Д.Н. Ушаков8, а позднее и профессор консерватории К.Н. Игумнов, появилась небольшая баррикада. Говорили, что сооружает ее продавец из угловой москательной лавки.
Трудно было устоять, чтобы не помочь ему в этом деле. Впрочем, несколько досок, унесенных мною с нашего двора, не сделали нашу баррикаду более грозной и неприступной. Защитников ее не было и дворники разобрали ее в несколько минут, чтобы она не мешала движению по переулку.
Пускай это была детская игра в революцию, но эта игра свидетельствовала о наших симпатиях и наших настроениях.
Когда возобновились школьные занятия, у многих из нас было что рассказать друг другу. Но Алехин и тут, кажется, не проявил никакого интереса к нашим рассказам, и он глубоко обидел меня тем, что, взглянув на мой пистолет, он несколько раз дернул головой в бок и презрительно улыбнулся.
Потом, когда я перешел учиться в Петербург, я узнал, что Алехин поступил на университетский курс Училища Правоведения. У меня были друзья среди правоведов, товарищей по курсу Алехина, и, бывая у них, я встречался и с моим гимназическим товарищем. Встречи эти не доставляли мне никакого удовольствия, да и ему, по-видимому, также. Тогда же я услышал, как потешались правоведы над необыкновенной «профессорской» рассеянностью Алехина, над его «штатской» душой, над отсутствием у него мундирной выправки и, особенно, над его неуменьем пить вино, что по неписаному кодексу чести некоторых правоведов считалось крайне предосудительным. (Впрочем, позднее он, кажется, этому научился).
Рассказывали, что Алехин мог при случае по рассеянности вместо треуголки – установленного для правоведов головного убора, надеть на голову какую-нибудь старую шляпу и даже картонный футляр и выйти так на улицу, за что он и подвергался суровым выговорам со стороны начальства Училища. Впрочем, в этот период его жизни, в рассеянности и чудачествах Алехина, я думаю, много было от юношеского озорства, желания порисоваться, отличиться, почудить. Когда товарищи бурно и весело реагировали на какие-нибудь удивительно «чудные» выходки Алехина, то у него самого появлялись в глазах какие-то веселые искорки и лицо выражало отнюдь не смущение, а чувство самодовольства и удовлетворения: «Вот, мол, я какой, – мне все нипочем, а вот вы попробуйте-ка…» Отношения мои с Алехиным испортились от того, что я принимал его выходки «всерьез», вместо того, чтобы обращать их в шутку.
Вскоре по поступлении Алехина в Правоведение он одержал свою первую знаменательную победу на шахматном поле.9 Во всех газетах и журналах появились его фотографии. Появились и карикатуры. Так, в «Петербургской газете» Алехин был изображен в виде мальчика-гимназиста, несущего громадный кубок-приз и согнувшегося под его тяжестью. Это дешевое остроумие было рассчитано на невзыскательные вкусы петербургских обывателей, читателей этой бульварной газеты.
Потом началась война. За ней пришла революция, и я больше Алехина не встречал. То, что мне позднее удалось узнать о чемпионе мира по шахматам, указывало на то, что мой беспокойный сосед по школьной парте во многом изменил свой характер и свое отношение к окружающему его миру.10
Дорога, по которой он шел к славе, не всегда была прямой и ровной. Кроме радости побед и успехов, он знал и горькие минуты поражений. Совершал он и крупные ошибки при выборе пути. Происходящее, как я думаю, во многом от недостаточного знания жизни, которую он проглядел за недосугом, и неуменья поэтому разбираться в реальной обстановке.
Теперь, по прошествии многих лет, для меня ясно, странности характера и чудачества Алехина, которые выделяли его из массы школьников, причиняли беспокойство окружающим его юнцам, или вызывали у них насмешки, были признаками его исключительной одаренности.
Не будучи сам шахматистом, но всегда оставаясь русским, я охотно забываю все наши юношеские недоразумения полувековой давности, памятуя только, что Алехин, как шахматный мастер, возвеличил культуру великого русского народа и принес славу русскому имени.
1960 г.Записки солдата-гвардейца
Глава I
Под влиянием моих первых наставниц: В.В. Степановой (эсерки), Марии Викентьевны11 (РСДРП), А.М. Левитской (ВКПб), я любил говорить, что ничто не заставит меня пойти служить офицером, разве только крайняя необходимость. Я вполне разделял взгляды Толстого на военную службу и видел в ней что-то весьма унизительное для человеческого достоинства.
Однако пребывание моё в стенах Училища правоведения сильно поколебало эту мою концепцию.
В войну с Японией многие правоведы пошли добровольцами в армию. Тогда же стала намечаться тенденция по окончании училища пойти не на гражданскую, а на военную службу. К этому времени, очевидно, у правоведов идеалы шестидесятых годов окончательно выветрились. Правоведение перестало быть колыбелью «белых юристов». На правоведов, которые, кончая училище, шли служить в Министерство Юстиции, товарищи смотрели, как на неудачников. Их жалели и вскоре забывали. В училище стали поступать для карьеры, для связей, для хорошего общества. После 1905 года из каждого выпуска кто-нибудь из правоведов шел служить в гвардию. В моё время служили: Коссиковский, Г. Гротгус и Струков – в кавалергардах, С. Игнатьев и Шеншины – в гусарах, барон Торнау – в Конном полку, Свечин – в Преображенском (флигель-адъютант)… Когда кто-нибудь из них появлялся в училище, гремя саблей и звеня шпорами, то мальчишки теряли голову, и даже самые благоразумные начинали мечтать о гусарском ментике или кирасирском колете.
В моем классе о военном мундире говорили Бобриков, Фермор, Томкеев, Таптыков, Рогович, Каменский, Яковлев (флот), Балбашевский, Армфельдт. Нет ничего удивительного, что и я стал подумывать о мундире преображенца. Однако, когда я поделился этими мыслями с моим братом Дмитрием, уже носившем гусарский гродненский мундир, то он очень резко воспротивился моему проекту: «Если ты пойдешь служить в пехоту, то ты мне больше не брат. Ты не представляешь, какой это ужас – пехотный полк. Если хочешь служить – иди в конную артиллерию. Часть очень приличная, достаточно скромная. Служба там рай, и тебя туда примут. У меня там много друзей».
Я не мог не прислушаться к совету брата-офицера. На нашей правоведской бирже хорошего тона конная артиллерия никак не котировалась, ее никто не знал. Я тоже. Но у меня там был знакомый, Е.Н. Угрюмов, друг семьи моего дяди Сергея Александровича Римского-Корсакова. Я обратился к нему за советом. Он подтвердил мне все, что сказал мой брат, и добавил, что со своей стороны он посодействует моему поступлению вольноопределяющимся. Сам Угрюмов тоже начал свою службу в конной артиллерии с вольноопределяющегося и потом сдал офицерский экзамен при Михайловском артиллерийском училище.
Надо заметить, Угрюмов очень серьезно предупредил меня, что выдержать офицерский экзамен чрезвычайно трудно – он требует и особых математических способностей, и исключительной усидчивости, внимания, и временного отречения от всех радостей жизни. «Хватит ли у тебя для этого воли и сил?» – спросил Угрюмов. Я отвечал, что попытаюсь. Ответ мой был очень легкомысленным. Действительно, надо было со всей серьезностью отнестись к предупреждению Угрюмова. Я этого не сделал и, может быть потому, что помнил совет брата. Вряд ли он, зная мои средние способности, посоветовал бы мне что-нибудь такое, чего я не мог бы преодолеть.
Мой дядя, артиллерист, а также и мой отец, артиллерийский офицер в отставке, очень приветствовали мое решение. Но никто, кроме Угрюмова, не предвидел всех трудностей, ожидавших меня в дальнейшем.
Итак, я подал просьбу о принятии меня вольноопределяющимся в конную артиллерию. Адъютант, капитан Огарев, предложил мне оставить свой адрес и ждать извещения. Это было великим постом 1912 года. Прошло два месяца, и никакого ответа я не получал. Я обратился за содействием к Угрюмову. Оказалось, что Огарев уже больше не адъютант. Новый адъютант, А.П. Саблин, ничего обо мне не знал. Пришлось подавать прошение вторично. Саблин спросил, не брат ли я гродненского гусара? И узнав, что брат, сказал: «В таком случае вы уже приняты. Поезжайте домой, а в августе приходите, чтобы получить назначение в учебную команду». Я так и сделал.
Настала осень.
Нас было четверо вольноопределяющихся: В.П. Штукенберг (Додя) и два брата Мезенцевых, Александр и Михаил. По совету Саблина я поселился вместе с Штукенбергом. Мы сняли нижний этаж флигеля у вдовы Постельниковой (sic!) в городе Павловске, где находилась учебная команда, на Солдатской улице. Над нами жил гарнизонный священник, носивший крест на Георгиевской ленте, полученный за Японскую войну. Мезенцевы устроились на полном пансионе у нашей хозяйки, жившей в доме, выходившем на улицу. Нам со Штукенбергом пришлось вести самим свой «дом». Откуда-то появился у нас слуга, Иосиф Козловский – немолодой, неопрятный и тщедушный поляк, очень малосимпатичный. Позднее оказалось, что он болен туберкулезом. Это не мешало ему уничтожать все наши запасы и вина. Он всем своим видом выражал свое неудовольствие и, разговаривая с нами, презрительно усмехался. Мне он портил аппетит, а Штукенберг ворчал и спрашивал, для чего мы должны терпеть такую неприятную фигуру около себя? Однако уволить Иосифа у нас не хватало духу. Уж слишком жалкий это был человек. В конце концов он все же от нас ушел. При расчёте, прощаясь, он скривил рот в ехидную усмешку и посоветовал нам взять молодую кухарку: «Я же знаю, что вам требуется». Мы взяли по объявлению в газете одного парнишку. Он был очень веселого и общительного нрава и стал любимцем всех соседних кухарок. Впрочем, он был добродетелен, как красная девица.
Обед мы сначала брали из офицерского собрания. Но это было дорого, а порции не соответствовали нашим зверским аппетитам. Стали что-то готовить дома. Штукенберг очень любил щи по-французски – «по-то-фё» и омлет из сбитых яиц, как я его приготовлял, без молока (ocufs brouilles). Но в основном пищей нашей служили всякие консервы (кукуруза и др.), масло, сыр, колбаса. По-холостяцки денег уходило много, а питались кое-как.
Квартира наша состояла из четырех комнат и кухни. Кроме того, две большие веранды, совершенно нам не нужные. Платили мы за квартиру 50 руб. в месяц. Это было очень дорого для зимнего сезона по Павловским ценам. Зато казармы учебной команды были в пяти минутах ходьбы. Надо заметить, что дома у себя мы бывали только для того, чтобы спать и есть. В начале службы мы так уставали, что и есть не хотелось, а только бы спать и спать. Это вполне понятно. По расписанию наших служебных занятий мы вставали в 4 часа утра и отправлялись на чистку лошадей и уборку конюшен. Уборка продолжалась до 6 часов. Потом до 8 часов был перерыв для умывания и завтрака. С 8 до 11 часов проходили занятия пешего строя и гимнастика. Занимались мы в малом манеже, пристроенном к большому. Конечно, манеж не отапливался, хотя печи и были. В громадных окнах не хватало многих стекол. Температура воздуха была такая же, как и на улице. Но самым неприятным был не холод, хотя наши ноги очень страдали от него, а сильный сквозняк. Для многих его действие было губительно, когда мы разгоряченные, потные, в одних гимнастерках, стояли неподвижно в строю. Очень многие простывали, а бедняга Чирец, со слабыми легкими, схватил жестокий плеврит, был отправлен на родину и вскоре там умер. Удивительно, что никакими гриппами никто у нас не болел. Правда, многие болели, но совсем не гриппом. Кое-кто из солдат, и мы в том числе, носили под гимнастеркой теплую шерстяную фуфайку. Это не запрещалось, при условии, что фуфайку не будет видно. В какой-то мере это предохраняло от холода. Обмундирование у нас было собственное. Надо было иметь два комплекта, один – рабочий, служебный, а другой – выходной. Очень быстро нашу одежду пропитал лошадиный пот, и ехать в «увольнение» на воскресение «в город», т.е. в Петербург, в вонючей шинели было абсолютно невозможно. Пахнет лошадь не противно, но всё же сильный ее запах «шибает в нос».
Сапоги тоже были строевые и городские, также как и шпоры. Конечно, собственная шинель была длиннее казенной и доходила до пяток – согласно кавалерийскому шику. Каждый солдат учебной команды имел закрепленного за ним коня. Он на нем ездил, убирал его, кормил. Мне был дан конь «Донец», – умнейшее животное. Он знал строевую службу, все команды, не хуже самого господина вахмистра. Согласно установившейся традиции вольноопределяющиеся сами своих коней не убирали. Господин вахмистр назначал им «рехмета» из числа солдат учебной команды, т.е. вестового, который за десять рублей в месяц, а то и меньше, убирал лошадь вольноопределяющегося (Александр Мезенцев сам чистил своего коня, с которым он и подружился). Хотя мы сами своих лошадей не чистили, но на утреннюю уборку и вечером ходить были обязаны. Очень мучительны были эти хождения в морозные ночи, когда, как вспоминал Штукенберг Пушкина, «все доброе ложится, и все недоброе встает».
Месяца через четыре мы были освобождены от чистки коней, но в дневальства и дежурства назначались до конца курса учебной команды, то есть до конца апреля. Правда, эти наряды бывали не часто.
Не знаю, где было хуже дежурить: на конюшне или в казарме. На конюшне было холодно и жутко. Температура всё же была не выше нуля. Но просидеть двенадцать часов там было тяжело. Особенно мерзли ноги, и согреть их не было никакой возможности. После 12 часов ночи начинало усиленно клонить ко сну. Борьба со сном, можно сказать, являлась главной нашей обязанностью. Борьба давалась эта нелегко. Мерное похрапывание и дыхание лошадей, однообразное бряцание цепей и удары их о кормушки, шуршание соломы и абсолютная тишина снаружи как-то незаметно убаюкивали. Стоило только присесть на мешок с овсом или на ларь, как уже погружался в сон. Но сознание боролось и сопротивлялось сну, и поэтому этот сон походил больше на клевание носом. Сделаешь клевок и очнешься. Откроешь глаза и с ужасом видишь перед собой какую-то чудовищную морду из гоголевской фантастики! Эта чертовщина оказывается головой лошади, которая неслышно подошла к мешку с овсом. Надо заметить, что ночью все лошади ежеминутно сбрасывали с себя недоуздки, выходили из денников и бродили по конюшне, очевидно в поисках съедобного, так как казённый их рацион был явно недостаточен. На одну лошадь полагалось: 8 фунтов овса, 10 фунтов сена и 12 – соломы-подстилки в сутки, которую они тоже сжирали с удовольствием. Бедные животные все время чувствовали голод и злобно поглядывали на дневальных.
Загонять лошадей в стойла было довольно хлопотливо, к тому же некоторые из них кусались и лягались, так как лошадь вообще животное злое и хитрое.
Дежурить по казарме ночью было, может быть, не так тяжело, но очень омерзительно. Питались солдаты команды хорошо. Обед состоял из очень жирных, и поэтому почти несъедобных щей с большим куском мяса (200 грамм) и жирной каши. Хлеба ржаного полагалось, если не ошибаюсь – 3 фунта (т.е. больше кило) и 56 золот. сахара, т.е. больше 200 гр. Очень много хлеба оставалось. На ужин давали кашу. Порции были большие. От такой пищи ночью в спальном помещении поднимался такой тяжелый дух, что становилось невмоготу и приходилось выходить на улицу, чтобы подышать чистым воздухом. Впрочем, после улицы воздух в казарме казался ещё чудовищнее. Присоедините сюда еще запах портянок, которые сушились, развешанные у печек, и тогда вам будет ясно, что дежурство на конюшне было значительно приятнее.
Устав требовал, чтобы на ночь, для вентиляции, печные трубы не закрывались, а также открывались бы форточки для проветривания. Однако открывание форточек вызывало гневный протест солдат, которые под утро очень страдали от холода, так как асфальтовый пол быстро остужал помещение, в котором и без этого никогда не было жарко. После дежурства казарменная вонь еще долго держалась в носу, и было ощущение, что и шинель, и мундир, и сам весь пропитался этим тошнотворным запахом.
Когда я первый раз пришел на ученье верховой езды, сменой командовал поручик Н.А. Барановский, бывший лицеист, ставший офицером из вольноопределяющихся. Урок заключался в том, что надо было научиться влезать на лошадь, неоседланную, стоящую на месте и идущую рысью. Как оказалось, влезть на лошадь без седла и стремян – дело довольно сложное, почти невозможное. Сколько я ни делал попыток вскочить на спину кобылы «Венеры», это мне не удавалось. Барановский долго смотрел на мои потуги и сопел как морж. Наконец, он подошел ко мне: «Согни левую ногу», – сказал он и легко подсадил меня на круп лошади. «Надо научиться самому влезать. Никто другой раз помогать не будет».
Никакого другого технического приема для влезания на лошадь он ни мне, ни моим товарищам не преподал и скоро ушел домой, поручив занятия вахмистру. Степан Петрович Зайченко был наш первый, непосредственный начальник, вахмистр учебной команды, подпрапорщик, любимец офицеров, да, пожалуй, что и солдаты к нему относились хорошо и уважали его, несмотря на то, что он был еще очень молод годами и только второй год находился на сверхсрочной службе в учебной команде. Характера он был спокойного, всегда ровный в обращении, корректный, выдержанный. Совсем не помню, чтобы он когда-нибудь кричал на солдат или ругался, а тем более дрался. Спокойно отдавал распоряжения, не травмируя солдатскую психику. Усов и бороды не носил и порой выглядел совсем мальчишкой. Иметь с ним дело нам, вольноопределяющимся, было очень приятно. Когда Александр Мезенцев, наш староста (дуайен) передал ему от нас сорок рублей (по десяти с человека) и сказал, что вольноопределяющиеся его благодарят, он очень спокойно сунул деньги в карман и сказал: «Ну, это, как полагается». Потом он получил такую же сумму на Рождество, как поздравление с праздником.
Держал себя с нами Степан Петрович удивительно корректно и даже почтительно. Конечно, говорил нам «Вы» и здоровался за руку. А о нас говорил солдатам в третьем лице: «Соловьев, подай «им», господину вольноопределяющемуся, коня…»
Степан Петрович был женат. «Ихная баба» и «дитё» жили при нем. Жена была совсем невзрачной, серой бабенкой и являла резкий контраст с молодцеватой и подтянутой фигурой мужа. Носил он всегда бушлат светло-песочного цвета, на петлице которого укреплялся конец серебряной цепочки от часов – подарок за хорошую службу от командира батареи. Службу он действительно знал хорошо и умел очень толково передать солдатам необходимые сведения. Так и на этот раз, когда Барановский поручил Степану Петровичу проводить занятия без него, он подошел ко мне и стал показывать, как удобнее всего влезть на лошадь, для чего нужно сделать прыжок на месте и оттолкнуться от земли одновременно двумя ногами. Когда я достиг в этом некоторого совершенства, он показал прыжки на лошадь и на рыси, что оказалось много легче, и, наконец, на манежном галопе. Сначала я дрожал от страха и не мог себе представить, как это можно, вне арены цирка, показывать такие приемы джигитовки. Но потом, поборов свою робость, я осилил с грехом пополам и эту премудрость кавалерийской науки. Штукенберг оказался много храбрее меня и быстро научился обращаться с конем, достигнув в этом даже некоторого изящества и щегольства. Александр Мезенцев давно уже хорошо умел владеть конем, но при этом все его движения были крайне робки и неуверенны, что создавало неправильное о нем представление. Миша Мезенцев страдал больше всех нас, будучи довольно нескладным малым, не обладая ни нужной ловкостью, ни физической силой. Его внешний вид и наружность, носившая болезненный отпечаток, мало располагали к нему начальство, и спасало его от неприятных придирок лишь то, что он был Мезенцев, то есть принадлежал к семье, в которой все мужчины служили в конной артиллерии. Тем не менее, офицеры учебной команды не могли скрыть своей неприязни к этому бедному юноше, который своим кислым видом должен был бы внушать только жалость.

