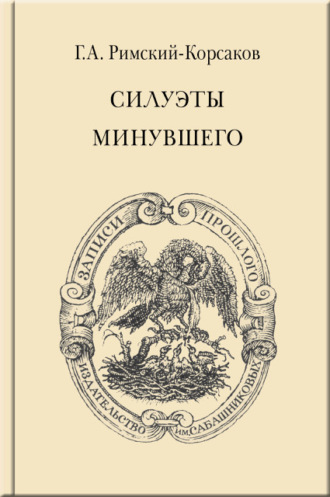
Полная версия
Силуэты минувшего
После нового года к нам в учебную команду прислали молодого солдата Мейера. Он был сын умершего офицера армейской артиллерии. Образование получил всего пять классов гимназии, что не давало ему права на отбывание воинской повинности вольноопределяющимся 1-го разряда. Но и для 2-го разряда (т.е. служить два года, вместо солдатских четырех) надо было иметь аттестат за шесть классов. Его мать хлопотала определить сына в гвардейскую конную артиллерию, где ей казалось, что к ее сыну будут относиться лучше, чем в какой-нибудь другой части и где служба легче. Это была роковая ошибка. Офицеры не признавали его своим и не хотели знать его офицерского происхождения. С солдатами он себя держал несколько отчужденно. Обижался, когда они обращались с ним запросто, по-товарищески. Но и с нами, вольноопределяющимися, у него отношения не наладились. Он был довольно тупой малый, малоразвитый и какой-то нескладный и «недоделанный», как называли его солдаты. Никаких общих интересов у нас не было, кроме службы, да и ту мы несли по-разному.
Мы сначала приняли в нем большое участие, считая, что попасть в солдатский котел человеку другого общества, другого воспитания, должно было быть очень невесело. Но вскоре мы убедились, что Мейер малый довольно пустой, умственно ограниченный, но с большими претензиями. Его внутреннее состояние заключалось в какой-то роковой «обиде». Обида на всё и всех. И на свою судьбу, и на школу, которую он не кончил, на офицеров, которые не очень деликатно третировали его, как простого, рядового солдата, и на солдат, которые над ним слегка подсмеивались и не хотели признавать его выше себя. Конечно, обида была и на нас, что мы были на особом льготном положении в команде. Эта была «обида» такого рода, с которой, наверно, родятся, живут и умирают армейские пехотные офицеры, обиженные судьбой, царем и обществом. Служить Мейеру было еще трудно потому, что он был какой-то скованный, неловкий и неповоротливый – «корявец», как называли таких солдат офицеры. Не знаю, куда он делся по окончании учебной команды. Ему, конечно, лучше бы было служить нестроевым, каким-нибудь писарем или каптенармусом. Потом началась война… Но вот в 1919 году, когда я ехал с командой красноармейцев на Гатчинский фронт, то на Варшавском вокзале вдруг встретил Мейера. Он узнал меня. На нем была фуражка с каким-то техническим значком и работал он где-то техником. Держался он вполне уверенно, и мне показалось, что наконец-то человек нашел свой путь.
В Павловске кроме 5-й и 6-й конных батарей, а также нашей учебной команды, были еще размещены Гвардейский Сводно-Казачий полк и гвардейский тяжелый мортирный дивизион. У наших солдат конной артиллерии были вполне добрососедские отношения с казачьим полком, командиром которого был свиты генерал-майор граф Граббе 1-й, и постоянная вражда с солдатами мортирного дивизиона. Их презрительно называли «пижосами» и подвергали всяким насмешкам. Впрочем, такое же отношение было к ним и со стороны наших офицеров.
Наш большой манеж был гарнизонным. В нем проводили поочередно занятия верховой ездой все части, квартирующие в Павловске. Мы начинали ученье там в 10 часов, а до нас и после нас ездили другие смены. Обычно после нас занимались наши офицеры под руководством старшего полковника, барона Велио, командира 5-й батареи. Также два раза в неделю ездили и офицеры мортирного дивизиона, под командой их командира, уже не молодого полковника. По уставу полагалось, если во время строевых занятий появлялся кто-нибудь из офицеров старше чином того, кто проводил занятие, то следовало остановить занятия и скомандовать: «Стой. Смирно! Господа офицеры!» Вошедший, обратившись к офицерам, говорил: «Господа офицеры», и, если был офицером своей части, то мог поздороваться с солдатами, а если чужой, то ограничивался тем, что, обратившись к руководителю занятий, говорил: «Продолжайте, пожалуйста».
Так вот у наших господ офицеров считалось хорошим тоном не замечать «пижосов», офицеров мортирного дивизиона, и ничего им не командовать, делая вид, что они их не заметили, хотя не заметить их было невозможно уж по одному тому, что наш вахмистр следил пристально за появлением каких-нибудь других офицеров и тут же потихоньку докладывал об этом нашему начальнику. Вполне понятно, что «пижосы» имели основание обижаться.
Как-то раз Линевич разошелся и задержал нашу смену сверх положенного по расписанию срока. Между тем, после нас должны были проводить езду мортирные офицеры. Они уже все собрались и, покуривая, посматривали на часы. Верховые держали лошадей. Наконец, пришел их полковник и спросил, почему они не начинают езду? Ему, очевидно, ответили, что манеж занят. Он громко крикнул Линевичу, который не замечал прихода полковника: «Капитан, освободите манеж! Ваше время давно истекло». Тут только Линевич «заметил» старшего начальника, остановил смену, скомандовал «смирно». На эту команду полковник ничего не ответил, что полагалось, и, подозвав Линевича к себе, начал его отчитывать за нарушение правила устава, заставив его держать руку у козырька и нас в положении «смирно», пока не излил ему все накипевшее у «пижосов» чувство обиды. Впрочем, от этого внушения отношение между соседями не стали лучше.
Я думаю, что конфликт между нашими офицерами и «пижосами» мортирного дивизиона был значительно глубже и серьезнее, чем традиционное презрительное отношение всякого верхового к пешему, конного солдата к пехотинцу. Дело было не в том, что кавалеристы кричали проходящему пехотному полку: «……………, пехота, не пыли».
Здесь у нас, в Павловске, столкнулись две «идеологии», два понятия о военной службе, аристократы с плебеями, очень глубокое различие между отношением офицеров к службе, к пониманию сущности этой службы. Наши офицеры считали, что «Гвардейская конная артиллерия» – это, прежде всего не воинская часть, а нечто вроде клуба, куда допускаются немногие, и только те, кто разделяет основное положение, что конная артиллерия – это общество офицеров, общественная, аристократическая по своей природе организация, как есть другие подобные организации: кавалергарды, гусары, уланы и пр. Очень ясно изложил нам эту концепцию поручик Перфильев: «Мы не артиллерия, не кавалерия, не пехота, а мы «гвардейская конная артиллерия». Мы общество офицеров с определенными вкусами, традициями, взглядами на жизнь. Кому не нравится наше общество, могут найти себе другое, по вкусу».
Тоже самое написал А. Игнатьев в своей книге «50 лет в строю» о кавалергардах, которые смотрели на свою службу в этом полку, как на наиболее приятное для них времяпрепровождение в очень приличном обществе, как на аристократический военный клуб, где солдаты и лошади являются лишь аксессуарами более или менее стеснительными, в зависимости от того, как кто умеет ими пользоваться. Впрочем, ведь есть вахмистры, которые прекрасно знают, что надо делать с солдатами и лошадьми. Для наших господ офицеров к солдатам и лошадям присоединялась еще пушка, – неприятная обуза для многих. Но, в конце концов, вахмистры и фейерверкеры (унтер-офицеры) тоже знали, что с ней надо делать. «Я служу в гвардейской конной артиллерии не потому, что я люблю пушку и лошадь, а потому что мне нравится то общество офицеров, которое называется «гвардейской конной артиллерией».
Необходимо заметить, что и у нас, и у кавалергардов были настоящие специалисты военного дела, хорошие строевики и артиллеристы. Это показала война. Но в мирное время эти мастера, военные-профессионалы, держали себя скромно и незаметно, как бы не желая вносить диссонанс в гармоническое единство своего аристократического клуба. Над такими энтузиастами и знатоками военной службы прочие господа офицеры немного подтрунивали, но, в общем, уважали их, и признавали их бесспорный авторитет в деле организованного человекоубийства.
Таким мастером, настоящим артистом артиллерийского искусства был, например, полковник кн. А.Н. Эристов, командир 1-й батареи. Кавалергарды-офицеры тоже показали себя молодцами в войну. Не их вина, что полностью обнаружить свои кавалерийские качества они не могли в условиях позиционной войны. Но и в пеших столкновениях с неприятелем они проявляли исключительную храбрость. При атаках в пешем строю они не ложились под огнем неприятеля и давали себя убивать, считая «неудобным» прятаться от вражеских пуль! Конечно, они несли большие потери при таком античном ведении боя. Что касается до солдат этого полка, то они, как и другие солдаты гвардейской кавалерии, воевали очень неохотно. Впрочем, строевую службу военного времени они несли хорошо. У нас говорили, что когда кавалергарды в сторожевом охранении, тогда можно спать спокойно. По-другому мы себя чувствовали, зная, что нас охраняют «желтые» кирасиры13.
Совсем другое отношение к военной службе наблюдалось у пехотных артиллеристов и, в частности, в мортирном дивизионе, где служили всерьёз специалисты военного дела, профессионалы…
В средине зимы мы одну из комнат нашей квартиры сдали подпоручику этого дивизиона, только что окончившему Константиновское артиллерийское училище14. Надо было послушать, с каким восторгом он говорил о своих мортирах, о службе, о своих познаниях в артиллерии, о своем учении. Как он гордился тем, что окончил училище с отличием, что дало ему право поступить в гвардию! Так вот, именно знания открыли ему двери в гвардию. Только лучшие ученики артиллерийских училищ могли служить в гвардейских частях. Они комплектовали 1, 2 и 3 гвардейские артиллерийские пехотные бригады, и только как редкое исключение попадали из училищ в гвардейскую конную артиллерию. Все остальные наши офицеры пришли к нам из Пажеского корпуса. Только четверо были из вольноопределяющихся (Гагарин, Мейендорф, Барановский, Угрюмов). На всю первую батарею, насчитывающую десять офицеров вместе с командиром, было только два офицера, окончивших училища: Эристов и Данилов. Остальные восемь были пажи.
Между тем, трудно себе представить пажа, который пошел бы служить в мортирный дивизион.
Для того, чтобы служить в гвардейской конной артиллерии, требовалось согласие всех господ офицеров этой части. Такова была традиция гвардии, её неписаный закон. Кандидат баллотировался, как в члены клуба. Достаточно было одного голоса против, чтобы подавшему просьбу было отказано принять его в часть. «Вставили ему перо», – как говорилось в офицерском обществе. Обычной формой отказа было «неимение ваканций».
Отказ от принятия в какой-либо из гвардейских кавалерийских полков имел очень серьезные последствия для молодого офицера. Если это делалось известным, то, как правило, это закрывало ему двери во все другие полки гвардии. Впрочем, бывало и так: какого-нибудь NN из хорошей родовитой семьи не приняли в кавалергарды только по той причине, что там его никто не знал, и при баллотировке про него никто ничего не мог сказать ни плохого, ни хорошего. А в Уланском полку у него были знакомые офицеры, которые могли его рекомендовать своим товарищам, и его принимали. Но вот вдруг уланы узнавали, что NN не был принят кавалергардами. Тогда выяснялась причина отказа. Если ничего порочащего NN кавалергарды не сообщали, то он мог благополучно продолжать службу в уланах.
Вообще не быть принятым в какой-нибудь из гвардейских кавалерийских полков считалось очень позорным. Вот почему все переговоры о поступлении в полк пажа или юнкера-выпускника начинались задолго до окончания военного училища и велись в строжайшей тайне. Для положительного ответа надо было иметь знакомых офицеров, лучше всего таких, которые пользовались авторитетом в полку. Эти знакомые щупали почву, выясняли путем закулисных, конспиративных разговоров с офицерами, какие шансы у молодого кандидата для поступления в полк. Таким образом, кто-то из офицеров должен был выступать в роли адвоката, и, конечно, дипломата. Когда все эти подготовительные переговоры давали основание надеяться на положительный ответ, NN являлся в канцелярию полка, чтобы подать просьбу о принятии. Этот визит являлся в то же время и смотринами. Кандидат представлялся командиру полка, который вел с ним разговор на различные темы, чтобы лучше распознать характер и личные качества молодого человека. Этот разговор мог происходить и в присутствии старших офицеров полка, которым предоставлялось решающее слово в этом тонком деле.
А.Н. Линевич рассказывал – правда, за стаканом вина – что в некоторых гвардейских полках учиняют кандидату в офицеры нечто вроде своеобразного допроса. Задаются будто бы весьма каверзные вопросы, как например: «Вы рыбку кушаете? А свистеть умеете? Вино пьете?» Если неофит дает отрицательный ответ на эти вопросы, то его в полк не принимают, поскольку это изобличает его склонность, если не прямую принадлежность, к гомосексуалистам. На это один из офицеров заметил Линевичу, к великому удовольствию присутствующих: «Александр Николаевич, а я что-то не замечал, чтобы ты когда-нибудь свистел?»
Иногда представляющихся кандидатов командир приглашал позавтракать в офицерском собрании, чтобы посмотреть, умеют ли они прилично есть и пить.
Потом командир полка передавал просьбу NN на рассмотрение общества господ офицеров. Это был кульминационный момент в жизни молодого человека. От решения собрания офицеров зависела вся дальнейшая судьба NN. И судьба эта часто зависела от чистой случайности. Достаточно было кому-нибудь из офицеров сделать какое-нибудь ироническое замечание по поводу предлагаемой кандидатуры, чтобы насторожить остальных и заставить их воздержаться от подачи своего голоса за кандидата, хотя бы из чувства осторожности и щепетильного проявления офицерской чести: как бы чего не вышло, как бы в военных и светских кругах не стали бы говорить, что полк принял неподходящего офицера. Вот почему, как я уже писал, предварительная согласованность этого вопроса в кулуарном порядке была совершенно необходима. Все эти переговоры происходили сугубо секретно для того, чтобы NN, в случае наметившегося отрицательного ответа, мог бы вполне безболезненно для своего самолюбия и дальнейшей карьеры подать просьбу в другой полк, где у него могло быть больше шансов на успех. Вот почему было абсолютно недопустимо объявлять заранее свое желание служить в том или другом гвардейском полку, не получив ещё согласия господ офицеров. Юнкер пехотного училища Истомин, сын генерала Истомина, служащего в придворном ведомстве в Кремле, любил в разговоре часто повторять: «У нас, в Измайловском полку», намереваясь по выпуску из училища служить в этом полку. Однако, его туда не приняли, только из-за того, что он поторопился считать себя офицером этого полка, а юноша был очень скромный, благовоспитанный, но, по-видимому, довольно наивный.
Очень многое, но не все, зависело от позиции командира полка. Бывали случаи, когда желание командира часто не совпадало с желанием господ офицеров и вступало с ними в жестокий конфликт. Так случилось, например, в Гродненском гусарском полку, когда в 1911 году туда захотел выйти из Николаевского кавалерийского училища юнкер Мартовский. Офицеры отказались принять его. Мартовский был из богатой купеческой семьи, а среди младших офицеров полка сложилось мнение, что не деньги дают право быть принятым в их общество.
Командир полка, полковник Бюнтинг (сам бывший офицер Лейб-гвардии Конного полка) не согласился с мнением полкового собрания, и указал, что Мартовского в полк рекомендует великий князь Николай Николаевич. Офицеры все же возразили. У них в это время шла борьба за чистку полка и удаления из него тех, кто поступал в полк ради красивого гусарского мундира. Возглавлял это направление в полку поручик Вершинин, отличный строевик и спортсмен. Он пользовался большим авторитетом среди молодежи.
Группа офицеров, состоящая из пятнадцати человек, отправила Николаю Николаевичу петицию, в которой почтительно просила его принять во внимание их традицию: допускать в свое общество только тех, кого они знают и кого они хотят. В настоящем случае они лишь отстаивают свое право, не касаясь личности Мартовского.
Николай Николаевич рассвирепел, получив петицию. Он приказал Бюнтингу принять Мартовского своей властью. Группа «пятнадцати» заняла отрицательное положение по отношению к командиру полка. Старшие офицеры испугались окрика великого князя и решили подчиниться приказу. «Пятнадцать» решили бойкотировать Мартовского, если он наденет мундир Гродненских гусар. Об этом сообщили Мартовскому. Однако, он был настолько бестактен и самонадеян, что все же появился в полку, Несколько офицеров, в том числе Вершинин и Римский-Корсаков (Дмитрий, мой брат) не ответили на воинское приветствие Мартовского. Он пошел жаловаться Бюнтингу. Тогда Римский-Корсаков публично, в присутствии Мартовского, высказал свое мнение о его поступке. Мартовский послал к нему секундантов, Бюнтинг немедленно сообщил обо всем Николаю Николаевичу, который приказал не допускать дуэли и послал комиссию усмирить «бунт» в Гродненском полку. Дуэль не состоялась. Комиссия решила оставить Мартовского в полку, а Вершинина, как смутьяна и подстрекателя к неповиновению, уволить в отставку без права поступления на военную службу; Римского-Корсакова и ещё нескольких офицеров из наиболее недовольных – уволить в запас.
Может возникнуть законный вопрос, чем руководствовались молодые люди при выборе полка для прохождения службы?
Все гвардейские полки, за исключением 3-й гвардейской пехотной дивизии и отдельной кавалерийской бригады, находящихся в Варшаве, были расположены в столице или её окрестностях. При этом, какое могло иметь значение – служить ли в Царском Селе или в Петергофе, на Захарьевской или на Конногвардейском бульваре? Другое дело – служить ли в Сувалках или Орле, в Ельце или в Москве? Однако, не надо забывать, что служба в гвардии требовала наличия значительных материальных средств, так как на офицерский оклад жить было невозможно, находясь на службе в гвардейской кавалерии и конной артиллерии. Служба в гвардии давала одинаковые льготы всем, независимо от полка, как в кавалерии, так и пехоте и артиллерии. В гвардии производство в следующий чин происходило через каждые три года, вплоть до чина полковника. Особенно быстрое продвижение в чинах было в конной артиллерии и кавалерии, так как у них была своя очередность производства. Поэтому, как правило, полковники гвардии были не старше сорока лет, а в отдельных случаях, если они выходили в отставку, то делались генералами в возрасте 32-35 лет. Какой контраст с армией, где бывали капитаны с седыми головами, которые ждали по пятнадцать лет и больше производства их в подполковники! Офицер гвардии проходил путь от подпоручика до генерала в 15-20 лет, тогда как в армии этот путь можно было пройти лишь за 30-40 лет. Служить в гвардии всюду было одинаково трудно (в пехоте) и одинаково легко (в кавалерии и артиллерии). Легче было служить, где было больше офицеров. В кавалерии таким «легким» полком был кавалергардский, а трудным – конный (в 1914 году там было 23 офицера на четыре эскадрона) и гусарский, где было мало офицеров.
Были полки более дорогие, – как два гусарских, кавалергарды, Конный, Уланский, и более «скромные», такие, как два кирасирских, драгуны, конногренадеры.
Офицерские расходы составляли, помимо всяких обязательных полковых отчислений, ещё «манже, буар и сортир», как писал Лесков, то есть питание, выпивка и светские обязанности, требующие безупречно сшитого мундира и «содержания себя в чистоте». А мундиров должно было быть несколько (см. книгу Игнатьева). Имея в месяц 100 рублей, было очень трудно служить в кавалерии, но совсем хорошо можно было себя чувствовать в гвардейской пехоте. Впрочем, многое зависело от силы характера, выдержки и воли. Так Сергей Гершельман, когда все офицеры в собрании пили шампанское, пил только водку из самой маленькой рюмки, как ликер. Все Гершельманы в конной артиллерии умели себя так поставить, что к ним не предъявлялось никаких «винных» требований. В отношении питья им предоставлялась свобода действия: могли пить, а могли и не пить. Но, вообще говоря, пятьсот рублей в месяц необходимо было иметь каждому офицеру конной артиллерии, чтобы не прибедниваться и чувствовать себя свободно. Это не значит, что все офицеры этой части располагали такой ежемесячной суммой. Офицер, который не знал другого в жизни, кроме манежа, казарм и собрания, мог служить на значительно меньший доход. «Желтый» кирасир Жорж Левис-оф-Менар (мой двоюродный брат) служил, имея 250 рублей в месяц, а его брат Макс, тратил по тысячи в месяц и, наконец, должен был уйти из полка. Гастон Гротгус, кавалергард, женясь на Неклюдовой, собирался жить на 300 рублей в месяц. Таким образом, материальные возможности будущего офицера только отчасти могли влиять на выбор полка.
Если не было особых традиций или дружеских и родственных связей, требующих прохождения службы в каком-нибудь определенном полку (например: все Мезенцевы, Хитрово, Гершельманы, Кузьмины-Караваевы – служили в Конной артиллерии), то чаще всего полк выбирали по его репутации.
Кавалергарды – «штатский» полк. Конный – аристократический и военный (со значительным процентом нерусских фамилий). «Синие» кирасиры – службисты, «желтые» – полк прибалтийских баронов. Гусары – полк богатых аристократов. Уланы, драгуны, конногренадеры – служаки, строевики, очень консервативны и замкнуты («Петергофский гарнизон»), Гродненский – гуляки, «Уланский Его Величества» (Варшава) – спортсмены и строевики, полк скромный и приличный. К «скромным» полкам относили также синих и желтых кирасир, драгун и конногренадер. Во 2-й дивизии дисциплина была более жесткая, чем в 1-й дивизии. У синих и желтых кирасир больше спрашивали с офицера службу, чем у кавалергардов и конногвардейцев. Самым «разболтанным» полком считался кавалергардский. Впрочем, конная артиллерия ему в этом не уступала.
Игнатьев писал в своих воспоминаниях, что кавалергарды могли быть знакомы, кроме офицеров гвардейской кавалерии, только с офицерами 1-й гвардейской пехотной дивизии. 2-я пехотная дивизия считалась уже «parvenu»15. Офицеры этой дивизии в высшее петербургское общество не допускались. Во 2-ю гвардейскую пехотную дивизию входили полки: Московский, Гренадерский, Павловский и Финляндский.
Однажды, уже будучи вольноопределяющимся, мне пришлось провести вечер в обществе старших офицеров Московского полка. Мой родственник, Л.П. Римский–Корсаков был офицером этого полка. Потом окончил Военно-юридическую Академию, служил в Москве и, приехав по делам службы в Петербург, остановился у своего бывшего командира полка, генерала NN, жившего на Лиговке, за Московским вокзалом. Лиговка считалась улицей крайне дурного тона. На ней, совсем недалеко от Невского, находились «Золотые львы» – известный публичный дом. В высшем обществе старались Лиговку не замечать. Конечно, никто из офицеров 1-й дивизии не мог бы жить там. Тихая и приятная беседа, которая велась за самоваром у добродушного хозяина, генерала NN, в его очень скромной квартирке, характер и стиль разговора офицеров полка, в котором ещё не забывались вольнолюбивые традиции их однополчан-декабристов, резко отличались от развязного, наглого и самоуверенного тона разговора наших офицеров. Это были служаки, военные профессионалы, «капитаны Тушины», скромные, тихие, без отвратительного зазнайства и презрительного отношения к жизни.
Очень «светскими», шикарными считались «Стрелки императорской фамилии». Малиновые рубашки и барашковые шапочки многих соблазняли. Потом, все знали, что это любимая форма Николая II и это поднимало репутацию части. Любопытно, что остальные гвардейские стрелковые полки (2-й и 3-й) всегда забывались, когда говорили о гвардейской пехоте, и репутации у них никакой не было, – так себе, просто полки. Особое, и весьма почетное место занимал в гвардии «Саперный батальон» (полк), престиж которого умело поддерживал его командир А.А. Подымов, очень уважаемый своими офицерами и солдатами.
Свиты генерал-майор А.А. Подымов или, как звали любившие его солдаты, «Дым-Дымыч», был человек редкой души и обаятельности. Мне приходилось его часто встречать в семье военного инженера Ивана Леонардовича Балбашевского, отца моего большого друга и товарища по Правоведению. Кажется, Подымову удалось доказать великому князю Николаю Николаевичу, что для того, чтобы поднять престиж Гвардейского саперного батальона, необходимо приукрасить его внешний вид. И действительно, в предвоенные годы красивая внешность гвардейских саперов, их культурный вид обращали на себя внимание. При этом у них не было совсем забитого и замуштрованного вида, как у многих пехотинцев. Говорили, что Подымов был для солдат более, чем «отец родной», и что его отеческое чувство к подчиненным происходило из симпатий особого рода. Может быть, кое-что в его поведении давало повод для таких толков. Так, бывая у Балбашевских, он принимал самое активное участие в шумных играх и веселых забав молодежи, пажей и правоведов, матери которых умилялись, глядя на солидного генерала, бегающего с завязанными глазами, играя в «кошки-мышки», а отцы не без ехидства улыбались себе в усы. Казармы саперов были смежные с нашими, и мы знали, что саперы глубоко уважали своего Дым-Дымыча. Чем строже и требовательнее он был в строю, тем обходительнее и сердечнее вне его.

