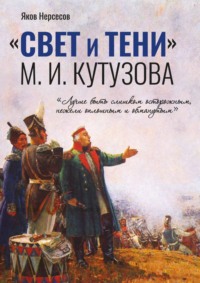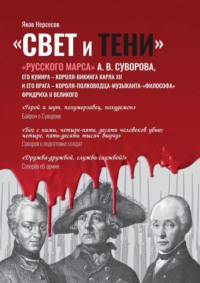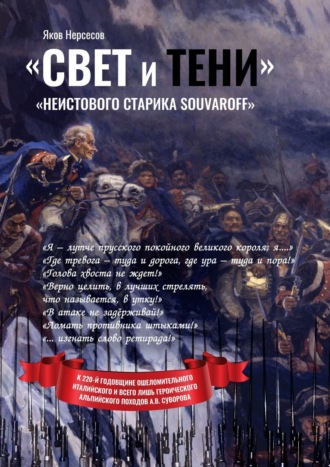
Полная версия
«Свет и Тени» «неистового старика Souvaroff»
К сражение было закончено: лагерь взят, а враг бежал в беспорядке… 12 дня
Турки оставили на поле сражения человек, попали в плен, всю артиллерию, 8 знамён и огромный обоз; русские потеряли убитыми и ранеными: настолько выше они стояли, как профессиональные воины. Но быстроногая легкая татарская конница снова ушла от преследования русской тяжелой кавалерией почти без потерь. более тысячи две тысячи 29 61 (легкой не хватало)
И все же, именно поспешное отступление позволило Каплан-Гирею избежать больших потерь и отойти к своим главным силам (до 150 тыс. воинов?) под началом великого визиря Иваззаде Халил-паши, уже готовившимся к переправе через Дунай и к решающей схватке с русскими.
После боя у Ларги Румянцев лично благодарил своих солдат и офицеров за проявленное мужество и боевую выучку, щедро наградил их деньгами и воодушевил на дальнейшую борьбу с многочисленным неприятелем.
… именно победа при Ларге привела к учреждению в России единственно чисто военного ордена четырех классов. Его можно было получить только за личные заслуги на поле брани. Напомним, что вторым кавалером этой высшей воинской награды стал именно Петр Александрович Румянцев за победу при Ларге. Ну, а первым орденоносцем Святого Георгия высшего класса, как известно, оказалась… императрица Екатерина II, . Можно по-разному трактовать этот «маневр», знавшей толк в «будуарных ристалищах», прагматичной немки, ловко прихватившей в свои цепкие лапки престол крупнейшей империи на целых 34 года! В том числе, очевидно, ей так было надо для самоутверждения как императрице-узурпаторше: сметливому «слабому полу» всегда виднее, где и когда «подстелить соломки», в том числе, и в «воинском вопросе». Между прочим, Так бывает, таковы Гримасы Истории… Святого Георгия сама себя наградившая
Через две недели – – Петра Александровича Румянцева ждал новый успех на войне с турками – самый грандиозный за всю его земечательную военную карьеру, но, как потом окажется… ! 21 июля (1 августа) последний
повторимся Современная интерпретации одной из ключевых битв русско-турецкой войны 1768—1774, состоявшейся 21 июля (1 августа) 1770 г. на реке Кагул, что на юге современной Молдавии (между городом Вулканешты и селом Гречень), предполагает следующее! ( – предполагает!)
«…Проиграв под Ларгой, турецко-татарские силы крымского хана Каплан Гирея благополучно отошли по направлению к Дунаю. Русский авангард обнаружил, что отступавшие разделились на две части: татары двинулись в сторону Измаила и Килии, а турки ушли вниз по левому берегу реки Кагул.
Последнее поражение раздражило Иваззаде Халил-пашу, но не лишило его уверенности в своих силах. Он созвал военный совет, на котором предложил переправить войско на судах через Дунай и самим атаковать русских. Крымский хан прислал великому визирю информацию от русских пленных об остром недостатоке в армии Румянцева продуктов питания. Более того, хан утверждал, что именно сейчас самое подходящее время для атаки, и обещал совершить нападение всеми своими конными силами (до 80 тыс.?) на тыл русских войск, если великий визирь атакует их с фронта. Все эти доводы, а также показания пленных о сравнительно небольшой численности русской армии убедили турецкое командование в правильности выбранного решения и неизбежности поражения врага.
14 июля великий визирь переправил своё войско через Дунай на 300 судах. Перебравшись на другой берег, он взял на себя командование центром войска. Командующим правым флангом великий визирь назначил Абазу-пашу, арьергарда – Мустафу-пашу. Каждому из них было выделено по 10 крупнокалиберных орудий.
Всего у турок на тот момент могло быть тыс. чел., в том числе, 50 тыс. пехоты и 100 тыс. конницы с 350 стволами разнокалиберной артиллерии. Тогда как у Румянуцева согласно списочному составу было 23.615 пехоты (53 бат.), 3.495 регулярной кавалерии (47 эск.), 2.896 казаков при 106 полковых и 149 полевых орудиях – чел. ок. 150 всего 30.006
Все эти силы он распределил на шесть более или менее равнозначных частей (корпусов и дивизий: генерал-аншефа П. Олица, генерал-поручика П. Племянникова, генерал-поручика, графа Я. Брюса, генерал-поручика, князя Н. Репнина и генерал-майора (квартирмейстера) Ф. В. Боура, тогда как кавалерию поручил генерал-поручику, графу И. П. Салтыкову
Дабы не допустить объединения сил великого визиря и крымского хана 17 июля русские войска переправились через р. Кагул и расположились лагерем у селения Гречени. Для прикрытия армейских магазинов и обеспечение безопасного движения обоза, следовавшего к войскам с 10-дневным запасом продовольствия от Фальчи, был выделен отряд генерала Ф. Глебова (4 гренадер. бат. с регулярной кавалерией и иррегулярной конницей). Помимо этого отрядам генерал-майора Григория Потёмкина (!) и бригадира Ивана Гудовича (!) было предписано выдвинуться в сторону р. Ялпуха для прикрытия оттуда главных сил. будущего знаменитого екатерининского фаворита впоследствии прославившегося успешными военными действиями на Кавказе
В результате всех этих «предматчевых маневров» прямо перед началом сражения у Румянцева (под его непосредственным началом) могло быть (данные сильно разнятся) тыс. пехоты несколько тысяч регулярной и иррегулярной кавалерии при 118 орудиях. от 17 до 21 (?)
… той русско-турецкой войны было заметное количественное превосходство турок над русскими в силах, главным образом в лёгкой, нерегулярной кавалерии. Поэтому, зачастую основной формой боевого порядка русских войск было каре – четырёхугольное построение, при котором пехота могла вести боевые действия даже при полном окружении и отражать атаки конницы. конфликта были слаженные и эффективные действия русской артиллерии, которая своим огнём успешно подавляла турецкие батареи, тем самым, во многом сводя на нет численное превосходство врага над русскими… Кстати сказать, одной из особенностей Другой особенностью
Не считая возможным немедленно двинуться на неприятеля, по крайней мере, без семидневного запаса провианта (его оставалось на два-четыре дня), Румянцев приказал немедленно ускорить движении обозов: для чего выслал им навстречу полковые повозки, вооружил и усилил погонщиков. Кроме того, он приказал армейским обозам, следовавшим от Фальчи к реке Сальче, перейти к р. Кагул для предотвращения нападения татар из-за Ялпуга.
По правде говоря, у Румянцева была возможность отойти. Это сочли бы разумным: силы были слишком не равны, подвоз боеприпасов затруднен, провианта осталось на три дня. Но он решил атаковать, постаравшись обмануть противника. Каждая дивизия («корпус») строилась в каре, причем, их «бока» должны были быть вдвое меньше фронта. Углы каре занимали гренадеры ближайших к ним полков. Несколько каре образовывали боевую линию, а на флангах располагались егерские каре. В атаку предписывалось идти быстрым шагом и под музыку. Учитывая огромный перевес врага в коннице, русский полководец выделил небольшую часть своих солдат на прикрытие своего тыла, меньше половины оставшихся сил должны были сковать правый фланг турок, а вот на левый фланг неприятеля, где Румянцев обнаружил слабости во вражеской обороне, он рассчитывал двинуть большую часть своих солдат.
В утра турецкая армия снялась со своей позиции и двинулась к селению Гречени. Румянцев наблюдал это движение с высокого холма. Сначала турецкая армия, остановилась в двух верстах, не доходя до остатков оборонительного вала знаменитого римского императора Траяна, выбирая наилучшую позицию. Но затем она разбила свой лагерь в семи верстах от русских войск, на левом берегу р. Кагул близ её устья. 10 часов 20 июля
После рекогносцировки русской позиции визирь решил сам атаковать русских: симитировав наступление на центр русских, все главные силы бросить на их левый фланг, чтобы опрокинуть в р. Кагул. Заслышав канонаду крымский хан должен был перейти р. Сальчу и со всеми своими силами обрушиться на неприятеля с тылa. Атака планировалась на 21 июля, о чем русскому командованию стало известно от «языков».
Вполне понятно было, что Румянцеву следовало атаковать турок до того, как быстроногая татарская конница успеет напасть на него с тыла.
Как и при Ларге, выдвижение русских войск началось глубокой ночью. Уже в русские войска по возможности скрытно и тихо пошли вперед к «Траянову валу». На рассвете они перешли его и выстроилась для боя. Когда в турки наконец обнаружили готового к атаке неприятеля, то они тут же послали на него всю свою огромную конницу, причем, максимально растянувшись по фронту с целью охватить своими «крыльями» русские фланги. Она была столь многочисленна, что казалось, ей нет конца и края. час ночи на 21 июля 5 утра
Пришедшие было в движение каре Румянцева остановились и открыли огонь: наибольший вред приносила врагу русская артиллерия одного из самых опытных генералов-артиллеристов Пётра Ивановича Мелиссино (1726/30, Кефалония, Ионические острова, Греция – 26.12.1797). Когда ее огонь остановил турок в центре, они перекинулись направо для усиления атаки на колонны-«каре» генерала Брюса и князя Репнина. Воспользовавшись лощиной между ними, турки окружили их со всех сторон. Одновременно турецкая кавалерия, пронеслась по другой долине, перескочила уже изрядно обвалившийся за многие века «вал Траяна» и стремительно ринулась в тыл каре Олица.
Румянцев быстро среагировал на вражеский маневр, отправив резервы из атакованных колонн для создания угрозы турецким путям отступления к их лагерю. Страшась лишиться возможности ретироваться, неприятель бросился назад, попав при этом под убийственный картечный огонь русской артиллерии. Видя это, остальная турецкая конница, атаковавшая каре на правом и левом флангах, тоже поспешила отхлынуть на безопасное расстояние.
Отразив, таким образом, первое нападение турок, в утра русские войска сами перешли в атаку на укрепленный лагерь врага, который встретил подходившие русские каре плотным огнем многочисленной артиллерии, в первую очередь, по каре генералов Олица и Племянникова. При этом, около 10 тыс. янычар спустились в лощину и ринулись на каре Племянникова. Пользуясь своим численным превосходством, они ворвались в него и смяли некоторые его части. Пришлось русским солдатам спасаться бегством из расстроенного каре, пытаясь укрыться в каре генерала Олица и, тем самым приводя и его в беспорядок. 8-м часу
Наступил критический момент в сражении…
Увидев эту «сумятицу-неразбериху», Румянцев поскакал из каре Олица к бегущим войскам Племянникова и одной фразой, «Ребята, стой!», удержал их от дальнейшего бегства, сгруппировав вокруг себя для организованного отпора беснующемуся врагу. Тут же по янычарам открыла огонь артиллерия Мелиссино. Плотный картечный огонь в упор наносил густым толпам янычар ужасный урон. Кроме того, с двух сторон на них обрушилась русская кавалерия, а генерал Боур, выделил батальон своих егерей для атаки янычар слева. После замешательства, вызванного взрывом зарядного ящика, 1-й гренадёрский полк бросился в штыки. Янычары не выдержали и обратились в бегство. Искусное взаимодействие артиллерии, пехоты и во время брошенной во фланг янычарам резервной тяжелой кавалерии сделали свое дело! Натиск умело управляемых войск русских оказался эффективней отчаянных бросков их противников…
Тем временем, фланговые колонны русских уже успели занять все неприятельские укрепления. Каре Племянникова и Олица удалось привести в порядок, и, оправившись от понесенного урона, ведомые в штыки самим Румянцевым, они снова пошли вперед. Особо отличился гренадерский батальон Сем. Ром. Воронцова, ударивший в тыл левого фланга турок. Не выдержав их залпового продольного огня, янычары в смятении отступили в лагерь. Начался его общий штурм неудержимо двигавшимися вперед русскими каре.
Повсюду шли яростные рукопашные схватки…
После того как турки увидели, заходящий им в тыл корпус князя Репнина, в утра они бросили свой укрепленный лагерь и под фланговым (продольным) огнём войск Репнина кинулись бежать. 9 часов
К огромный лагерь великого визиря был разгромлен. полудню
Турки, умчавшегося в крепость Измаил Халил-паши, в панике бежали к Дунаю. Многотысячная конница Каплан-гирея так и не решилась атаковать русских в ходе их наступления на турок с тыла и ушла от Кагула к Аккерману.
Только усталость русской пехоты, бывшей на ногах с часу ночи, не позволила ей продолжать преследование далее четырёх верст, после чего оно продолжилось уже лишь силами кавалерии.
Брошенный вдогонку 22 июля (2 августа) корпус Боура обнаружил 23 июля (3 августа) у Карталы, переправляющиеся на другой берег Дуная остатки некогда могучего воинства великого визиря, быстро оценил ситуацию () и принял решение атаковать врага. В встали пехотные каре, а на – кавалерия. Энергичная атака привела к очередному поражению турок, таким образом, довершив их разгром. Деморализованный враг предпочел смерти плен. среди турок царил полный беспорядок центре флангах
После завершения битвы при Кагуле, памятуя о том, что «недорубленный лес вырастает!», Румянцев «сел врагу на хвост». Он начал преследование в направлении Измаила силами отряда генерала барона Осипа (Иосифа) Андреевича фон Игельстрома (7.5.1737, Горжды, Лифляндия – 18.2.1823, Горжды), переведенного с дипломатической службы в Польше на войну с турками. 23 июля туда же выступил корпус Н. В. Репнина, усиленный подразделениями под командованием Г.А Потёмкина. 26 июля (6 августа) войска Репнина взяли Измаил (), после чего двинулись дальше, последовательно захватывая оставшиеся в распоряжении турок опорные пункты на Нижнем Дунае. еще не раз русские будут его брать
Принято считать, что на поле битвы, в ходе бегства, на переправе и под Измаилом турки могли лишиться чуть ли не 12 тыс. чел. (Впрочем, есть иные более «весомые» цифры, но о них чуть ниже.)
Сначала – на поле боя они потеряли убитыми – тыс., пленными – тыс., а так же, 140 орудий (в том числе, 17 мортир, 24 фальконета), 50 знамён, огромный обоз с казной. Причем, мародерствующие казачки или арнауты успели разграбить её до того, как об этом узнало начальство. Румянцев велел отыскать захвативших казну, но безуспешно. Кроме того, при преследовании с 22 по 26 июля и при взятии Измаила – тыс. убитых и утонувших, 2 285 пленных, 65 орудий и 6 знамён. более 3 более 2 ок. 5
В тоже время, согласно победному рапорту, отправленному П. А. Румянцевым императрице, победа под Кагулом «обошлась» государыне-матушке в чел: убитыми 353 человека (в том числе, 3 офицера), без вести пропавшими 11, ранеными 550—556 человек (в том числе, 18 офицеров) и 1 травмирован (пушкой отдавило ногу)…» 921
… не исключено, что на самом деле турок в битве под Кагулом, все же, было меньше: не 150 тыс., ? Такое соотношение сил – лишь типичный миф, ! В подобных случаях на ум приходит всем известный исторический анекдот именно из эпохи русско-турецкой войны 1768 – 1774 гг. На вопрос армейского писаря, составлявшего донесение об одержанной победе в Санкт-Петербург и аптекарски точно указавшего потери русской армии («убито всех чинов и без вести пропало 921 раненных 550»), Петру Александровичу Румянцеву: «Ваше превосходительство, а турок сколько писать?», последовал легендарный по своей емкости ответ: «А, пиши тысяч двадцать, чего их, басурманов, жалеть!»… Кстати, а «лишь» 80 тыс. присущий победным донесениям многих полководцев всех времен и народов: нормальное желание уменьшить свои потери и преувеличить численность и урон неприятеля
В памятном для русского полководческого искусства Кагульском сражении Румянцев применил : для сдерживания многочисленной вражеской конницы вместо рогаток он выставил перед фронтом каре артиллерийские батареи; самостоятельное расположение дивизионных каре позволяло осуществлять взаимосвязь при обороне; и наконец, выделенные в отдельные боевые единицы, каре могли удобно двигаться по любой местности, легко обходя препятствия, не расстраивая при этом своего строя. Так дивизия могла выстраиваться и в несколько каре по 2—3 полка в каждом, а полки, в свою очередь, в случае необходимости могли в обще покидать каре. Как это, например, случилось в битве при Кагуле, когда каре дивизии Племянникова оказалось смято внезапной атакой сильно превосходивших янычар и лишь штыковая атака 1-го гренадерского полка из соседнего каре Олица дала возможность расстроенным частям Племянникова снова выстроиться в каре и продолжить наступление. своим прицельным огнём они прикрывали фланги и предваряли штыковой удар гренадеров и мушкетёров, причем, когда нужного количества егерей не хватало, часть мушкетёров превращалась в «стрелков». несколько новаторских тактических решений Петр Александрович вовсе не требовал сугубо буквального исполнении предписаний на бой. К тому же, Очень важная роль в тактических построениях Румянцева отводилась егерям:
Кагульская победа стала крупнейшей победой европейской армии над турками за всю историю их военных конфликтов. Армия боготворила Румянцева. Когда он объезжал полки и благодарил солдат за победу, в ответ ему неслось: «Ты – наш! Ты – солдат!»
Солдатское признание – высшая награда для любого полководца во все времена.
За эти нелегкие, но такие важные в начале войны победы 27 июля (7 августа) 1770 г. Румянцев был награжден не только вышеупомянутым ор. Св. Георгия 1-го класса но и ор. Св. Андрея Первозванного, произведен в фельдмаршалы, пожалован титулом графа и прозван восхищенными современниками «Российским Нестором». Кроме того, в парке Царского Села был сооружен победный обелиск в его честь. По приказу довольной императрицы была отчеканена медаль «За победу при Кагуле». Ей были награждены более 18 тыс. солдат и унтер-офицеров. Высший офицерский состав был награждён разными классами орд. Св. Георгия. (наградой полководческого масштаба!), Задунайского
…Петр I учредил в 1698 г. и выдавался он, как за боевые подвиги, так и за гражданские отличия. В армии на него мог претендовать лишь имевший чин не ниже полного генерала, т.е. генерал от инфантерии, кавалерии или артиллерии… Между прочим, орден Св. Андрея Первозванного
В благодарственном письме императрице новоиспеченный фельдмаршал ответил сугубо по-военному: «Мы, русские, подобно древним римлянам, никогда не спрашиваем: сколько неприятеля, а где – он?!»
…, гордая победой Екатерина перефразировала «рапорт» своего лучшего полководца: «Войска , равные древним римским, никогда не спрашивают, сколько неприятеля, но где они находятся». Во время подхватить и развить идею или мысль своего подчиненного – одна из самых сильных сторон, мелкопоместной, но отнюдь не худородной (!) Анхальт-Цербстской «принцессы» Софии-Августы-Фредерики или, как звала ее родня Фикхен – в 14 лет, волею судеб, ставшей великой княгиней Екатериной Алексеевной Романовой и спустя 18 лет, ловко и цинично взявшей в свои цепкие женские лапки бразды правления самой большой империей в мире, благо ее законный правитель проявил непростительную для самодержца мягкотелость, не говоря о «всем остальном». Впрочем, это совсем другая история – история про то, что, порой, власть «берут» или «jedem das seine». Кстати сказать (полужирный курсив мой – Я.Н) мои
Одержанная над вдесятеро сильнейшим неприятелем победа при Кагуле вознесла Румянцева в ряд первых полководцев XVIII в. Сам Фридрих II Великий хорошо знакомый с Румянцевым по Кунерсдорфу после придунайских побед последнего поздравлял его с ними в самых превосходных выражениях. Когда спустя годы – в 1776 г. – Румянцев оказался в свите наследника российского престола Павла Петровича в Пруссии, то в Потсдаме Фридрих Великий устроил для уважаемых гостей большое показательное учение не только армейских полков, но и королевской гвардии, специально вызванной из Берлинских казарм. На тех учениях прусские войска повторяли различные построения и маневры русских войск при Кагуле. Румянцев внимательно следил за всеми «перестроениями» и пришел к выводу, что они, вероятно, совершались по приказаниям греческого либо римского полководца. Что это – похвала или…
Но все это будет потом! А пока…
А пока () Петр Александрович еще не ведал, что Кагул – вершина его полководческой карьеры. Впрочем, этого не знал никто: « – »… повторимся! судьба располагает человек предполагает
Глава 9. Как два
генерала-поручика выясняли, кто из них круче: трактовки их «замятни-междусобойчика»…
Получив категоричный наказ императрицы-«матушки» поскорее победоносно «закруглить войну» с турками, Петр Александрович Румянцев приказывает двум корпусам рьяных и борзых до славы генерал-поручиков Суворова (тыс. солдат с 14 орудиями – ) и М. Ф. Каменского ( тыс. человек при 23 орудиях – ; на самом деле не исключается, что не превышали тыс.) предпринять в мае 1774 г. совместное решительное наступление за Дунай. Причем, согласно предписанию главкома (умела ушло-цепкая анхальт-цербстская принцесса озадачить мужиков!) 14 10 850 общие силы двух генералов 15 а не наоборот, что весьма важно для разносторонней трактовки дальнейшего развития событий. это согласно штатному расписанию если принимать во внимание штатное расписание Суворов должен был соединиться с Каменским,
Турки не были еще готовы к открытию кампании. Их ближайшие войска были расположены гарнизонами в крепостях, причем, у Шумлы было сосредоточено до 50 тыс. и там по донесениям разведки был сам визирь. Выработанный Каменским и Суворовым план действий, исправленный Румянцевым, сводился к следующему: оба отряда должны были параллельно наступать к Шумле, при этом, Каменский должен выслать отряды для демонстраций против Варны, а Суворов – прикрывать Каменского со стороны Силистрии. Затем предполагалось начать главное наступление против Шумлы или, если неприятель будет встречен в поле и направится против Каменского, то Суворов должен ударить во фланг или тыл турецкой армии и отрезать её от Шумлы
Главнокомандующий предоставил Каменскому и Суворову самим условиться относительно общего наступления и оставил им полную свободу действий. Спорные вопросы уполномочен был решать методичный Каменский, который хоть и был моложе Суворова на 8 лет, но генерал-поручика получил раньше Александра Васильевича и потому имел преимущество по старшинству в армии и спорные вопросы при совместных действиях решать надлежало ему. (еще в 1773 г., а тот по рекомендации Григория Потемкина лишь 17 марта 1774 г.), (это считалось весомым) Но зависимость Суворова от Каменского была неполной, двусмысленной; натянутыми, отношения двух рвущихся к славе генералов – затем и вовсе очень неприязненными.
Крайне амбициозный Суворов воспользовался недосмотром Румянцева, который прямо не подчинил его Каменскому. В ордере Суворову Румянцев написал: « (курсив мой – Я.Н.; вместо – ) вам вследствие того, по повелениям и учреждениям г. генерал-порутчика Каменского точно поступать тем образом, как долженствует генерал, один другому подчиненный». И это при том, что невероятно ревнивый до чужой славы Александр Васильевич не раз, публично, желчно язвил, что «Каменский знает военное дело, да оно его не знает». (или двусмысленной позицией, прекрасно знавшего о неладах между генералами и давшего им возможность выяснить на деле – «кто круче?») Рекомендую («Военная слава – самая ревнивая из страстей!» и делиться ею, добытой морем крови – своей и чужой – и смертями «бес числа» с обеих сторон, военные не хотели во все времена!) ПРИКАЗЫВАЮ
Принято считать, что проявляя строптивость, даже неизвинительное самовольство, Суворов, несмотря на то, что всю жизнь побаивался крутого и хамоватого Петра Александровича, вроде бы не пожелал подчиняться обошедшему его в чинах «мальчишке» Каменскому.
…Небольшого роста, худощавый, но крепкого телосложения, энергичный (8 мая 1738, Санкт-Петербург – 12 августа 1809, село Сабурово, Орловская губер.), безусловно, был фигурой весьма заметной и интересной и вовсе не столь однозначной, как его было принято «живописать/малевать» в отечественной литературе советского периода, в основном, противопоставляя его «иконе» русского полководческого искусства – «русскому Марсу», неистовому Александру Васильевичу Суворову. Михаил Федотович Каменский