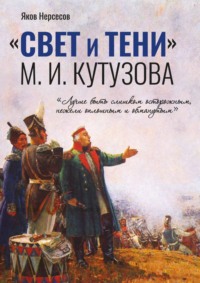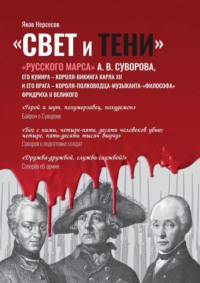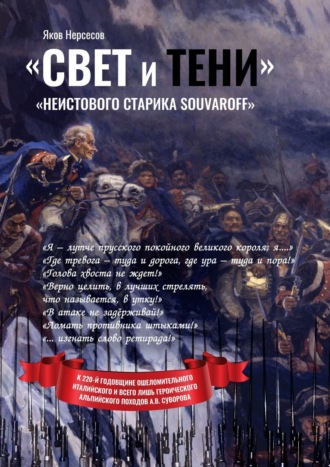
Полная версия
«Свет и Тени» «неистового старика Souvaroff»
Предположив, что русские сосредоточиваются у Голымина, Наполеон начал перемену фронта в северном направлении, для чего 12 декабря двинул корпуса: Сульта на Цеханов, Ожеро – на Новомясто, Даву, гвардию и резервную кавалерию – на Насельск и Стрегочин. В лютую непогоду 13 декабря Наполеон, стремясь получше разобраться во всем, что такого «намутил» очередной «старый лис севера», остановился с гвардией и частью резервной кавалерии в Насельске, потерял столь драгоценное на войне время («Война – это расчет часов!» – наставлял он своих маршалов и генералов) и облегчил тем самым ситуацию для русских.
Пока озадаченный Наполеон выяснял истинную обстановку большая часть корпуса Беннигсена успела подойти к Пултуску. Каменский, решив было именно здесь дать решающее сражение супостату, приказал занять позицию, о чем сообщил Буксгевдену: . Получилось, что дивизионному генералу Дохтурову был отдан приказ без ведома его корпусного командира Буксгевдена. Более того, вряд ли должно служить сигналом, для того, чтобы лишь Эссену 3-му Каменский предписывал отступить от Буга и занять леса пониже или прямо против Пултусских мостов, чтобы неприятель, появившийся у Пултуска, не навел скрытно моста и не зашел нам в тыл. В ожидании столкновения с неприятелем, Каменский послал начальникам дивизий повеления на случай, если бы кто-либо из них был атакован. «Завтра надеемся иметь неприятеля в гостях. Хорошо если бы дивизии ваши могли подоспеть к делу; Дохтурову я приказал, чтоб он показался тогда лишь, когда настоящее дело зачнется» «настоящее дело» «показаться».
Согласно его распоряжениям все дивизии должны были строиться к бою по старинке (в линии), как это было принято в середине – 2-й пол. XVIII в., когда активно воевал сам Михаил Федотович. В случае неудачи ретироваться предписывалось кратчайшими трактами к нашей границе, причем, максимально стремительно, желательно на подводах и только «. вошед в границу после такового несчастья явиться к старшему»
А затем начался то ли «театр одного актера», то ли «театр абсурда», то ли…!?
В 3 часа ночи (с 13 на 14 декабря, через семь дней (!) нахождения во главе армии (!) старика Каменского, случилось нечто непредвиденное. т.е. накануне сражения при Пултуске),
Главнокомандующий срочно призвал к себе Беннигсена и вручил ему следующее письменное повеление: . «Я ранен, верхом ездить не могу, следственно и командовать армией. Вы корпус ваш привели разбитый в Пултуск; думать должно о ретираде в наши границы, что и выполнить сегодня. Обе дивизии графа Буксгевдена ретираду вашу прикроют. Вы имеете состоять, с получения сего, в команде графа Буксгевдена»
… оставляя вместо себя командующим не Беннигсена, а старшего после себя (), печально памятного по своему участию в Аустерлицком сражении, стоявшего в отдалении от Пултуска со своими войсками (армией?), хоть и лично храброго по отзывам современников, но не блиставшего военными талантами генерала Буксгевдена, Михаил Федотович внес еще большую неразбериху в войска. Всем известно, что о боевом содружестве между этими генералами-«немцами» не могло быть и речи: неуемная личная зависть – вот что присутствовало между ними… Между прочим, по старшинству в генералитете
Напрасно Беннигсен, Остерман-Толстой и генерал-лейтенант, граф Петр Александрович Толстой [до 1770 – 28 сентября 1844, Москва] – () всячески убеждали взвинченного старика главнокомандующего отложить принятое решение, указывали ему на нарушение долга, на суд потомства и «все остальное». Все было напрасно, старый и больной строптивец не только самовольно сложил с себя обязанности командующего, но и разрешил, при необходимости, бросать при отступлении обозы и пушки (!) Более того, сославшись на недомогание и дряхлость, он уехал перед самым сражением в госпиталь, в Остроленку, откуда еще немного почудил, рассылая в войска во все стороны взаимоисключающие приказы. (12.3.1761?, 1767 или 1768 гг.? либо 1769 или, все же, 1770 гг.?) позднее – уже в 1807 г. – дежурный генерал при последнем и это при том, что потеря орудий каралась в армии очень сурово, в частности, ответственные за это на долгое время лишались права быть внесены в наградные списки царский генерал-адъютант и «координатор» между враждовавшими Буксгевденом и Беннигсеном
Уже оттуда он доложил царю о своем очень оригинальном решение, сославшись на ряд причин: «От всех моих поездок получил садну от седла, которая сверх прежних перевязок моих, совсем мне мешает ездить верхом и командовать такой обширной армией, а потому я командование оной сложил на старшего по мне генерала, графа Буксгевдена, советовав ретироваться ближе во внутренность Пруссии, потому что оставалось хлеба только на один день, а у иных полков ничего; я и сам пока вылечусь остаюсь в госпитали в Остроленке. Если армия простоит в нынешнем биваке еще пятнадцать дней, то весной ни одного здорового не останется. Перед Государем открываюсь, что по нынешнему короткому пребыванию при армии, нашел себя несхожим на себя: нет той резолюции, нет того терпения к трудам и ко времени, а более всего нет прежних глаз, а без них полагаться должно на чужие рапорты, не всегда верные. Граф Буксгевден, смело надеюсь, выполнит все, как и я. Увольте старика в деревню, который и так обезславлен остается, что не смог выполнить великого и славного жребия, к которому был избран. Дозволения Вашего ожидать буду здесь, дабы не играть роль писарскую, а не командирскую при войске».
Император Александр I, узнав об отъезде главнокомандующего прямо перед сражением, посчитал его из армии. Ходили даже слухи, что крайне раздраженный государь по началу подумывал предать старого фельдмаршала суду. Но потом, поостыв, из-за уважения к его чину и возрасту ( решил, все же, не делать этого. «сбежавшим» реноме «бабушкиного генерала-„орла“»)
Многие сочли тогда () Михаила Федотовича не только одряхлевшим и потерявшим всякую способность что-либо соображать, но якобы и страдавшим а потому «бежавшим из армии перед лицом грозной опасности». а потом и историки «душевным разстройством»,
Скорее всего, он, немало повидавший и повоевавший, причем, в разных армиях, кое-что еще соображал в военном деле. Учитывая крайне безобразное снабжение своей армии продовольствием и, опасаясь за ее неприкрытый левый фланг, Михаил Федотович посчитал отступление наиболее правильным способом действий в такой обстановке. Причем, он хотел отходить лишь до границы, т.е., земли российской империи не попадали бы в руки противника. Своей ретирадой он принудил бы Наполеона растянуть свою операционную линию, еще больше отдалив его от Франции. Как примерно год назад об этом же говорил Александру I перед Аустерлицким конфузом еще один «бабушкин генерал» – М. И. Кутузов. Но Михаила Илларионовича тогда не послушались и на всю Европу «обделались жидким», причем, как в переносном, так и в прямом смысле: у молодого царя () вскоре после битвы был настоящий понос на нервной почве! В тоже время, Михаил Федотович смог бы приблизить русские войска к источникам снабжения и усилил бы их подошедшими из России резервными дивизиями. (по его словам «третья часть армии была распущена для добывания себе пищи и откапывания в огородах картофеля») если, конечно, верить рассказам!?
Мысль, безусловно, была трезвая (), но к ее воплощению дряхлый, полуслепой, глуховатый и явно страдавший от открывшегося хронического геморроя «старый боевой конь» был уже не годен. Геморроидальное кровотечение действительно открывается от нервных потрясений, особенно в старческом возрасте! И в этом случае не только ездить верхом, но и передвигаться пешком очень сложно! она могла бы значительно улучшить положение русской армии (как он докладывал царю, «садны от седла»)
Не исключено, что столкнувшись с реальной действительностью, Михаил Федотович – человек не только немало повидавший за свою богатую на события жизнь, причем, в очень разных странах Европы, но и отнюдь не глупый – уже на месте окончательно понял всю ответственность столь высокого назначения, к которому он стремился всю свою жизнь. Не потому ли уже дряхлый «бабушкин орел» предпочел очень во время «выйти из игры» – очередной «войнушки» против лучшего полководца Европы, затеянной ее любимым амбициозным внучеком?
Это тоже надо уметь!
… «мало знать, как „войти в разговор“ – важно „ловко из него выйти“»! То же самое относится и к войне: ввязаться-то в нее всегда можно, а вот как из нее потом выпутаться, если быстро и легко победить никак не получается, не потеряв фасону и… рейтинга у своей «паствы», которая может и «взбрыкнуть» («), Кстати сказать, взяться за топоры и вилы» если «груз 200» превысит ее верно подданническое терпение!?.
Позднее старик-фельдмаршал весьма доходчиво и логично оправдался перед своими современниками за то, что самолично бросил армию перед лицом грозного императора французов. Рассказывали, что это случилось в беседе с генералом А. П. Ермоловым, побывавшим у него в усадьбе в 1809 г., незадолго до гибели старика: «…Мне к концу моего долгого поприща показалось слишком тесно маневрировать между Вислою и Бугом. (курсив мой – Я.Н.). Я сумасшедший». Есть и более лаконичные интерпретации объяснений Каменским своей «поспешной ретирады» со слов встретившего его уже по дороге из Остроленки С. Н. Глинки, но суть все та же: ; или (потом и потомками!) Я мог испортить за несколько дней свою репутацию, составленную в течение пятидесяти лет, а потому предпочел оставить армию «я имел кое-какую славу пятьдесят лет, и хотят отнять ее у меня в одну минуту…» «я имел кое-какую славу пятьдесят лет! А там можно было ее потерять в одну минуту!»
…, немало исследователей той войны так и не смогли объяснить действия Михаила Федотовича Каменского с точки зрения военной логики и называли этот недельный период командования русской армией, мягко говоря, «странным». Не исключено, что с таким «странным» главнокомандующим русским войскам грозил очередной «Аустерлиц», чьи последствия могли оказаться еще плачевнее… Между прочим
В тоже время, возможно, что пока русские войска согласно приказам Каменского хаотично перемещались по театру военных действий (), старый фельдмаршал все же сдался на доводы Беннигсена, горевшего желанием принять бой у Пултуска и сославшегося при этом на полученное им повеление самого государя: (резиденцию прусского короля). Раздраженный отказом Беннигсена отступать, Каменский в самый последний момент, очень умело «сманеврировал» (): предпочел дальновидно «самоотставиться» ( и за несколько часов до грядущего сражения немедленно покинул армию, что вполне устроило Беннигсена. а по сути блуждали, не зная смысла этих «блужданий» «защищать до последней возможности Кенигсберг» избежать участи Кутузова после Аустерлица, испортившего тогда свою безупречную до того полководческую репутацию, и в случае разгрома – ) – не оказаться «крайним»! тактику он знал, по словам Суворова, крепко «негоднику Буонапартии» в ту пору противостоять в открытом поле было очень трудно
Так русская армия, осталась без назначенного царем рулевого.
Беспорядочные распоряжения Каменского, введя противника в заблуждение, избавили русские войска от атаки всей неприятельской армии. Из этого и извлек для себя пользу Беннигсен, имевший под Пултуском дело лишь с одним корпусом Ланна. Одновременно с Пултуским сражением произошел бой у Голымина, в котором несколько французских корпусов с кавалерией Мюрата обрушились на остатки разных дивизий, блуждавших в разных направлениях. Тогда как Буксгевден во время этих боев бездействовал с дивизией Тучкова в 15 верстах от обоих полей сражения. Только высокие ратные качества русских войск и искусство их генералов позволили русской армии избежать тогда катастрофы. А ведь она явно грозила ей из-за созданного Каменским хаоса в управлении войсками ( ). И это при том, что Беннигсен открыто не желал подчиняться Буксгевдену, что внесло еще большую неразбериху в маневрировании русских войск. что напомним, уже будучи на удалении, в Остроленке, он не переставал чудить, отдавая беспорядочные приказания войскам, помимо их начальников: через голову корпусных – дивизионным и ниже
Интересно другое: в конце декабря фельдмаршал еще думал возвратиться из Остроленки к армии, но накануне отъезда получил повеление об увольнении его от должности главнокомандующего. Кроме того, ему было приказано оставаться в Гродно. Каменский отлично понимал свое положение и 29 декабря писал своему любимому младшему сыну Николаю (отменно сражавшемуся в ту кампанию): . Объясняя сыну свое поведение за время командования армией, он просил доложить Государю: . «Батюшка твой вместо командира обратился во дворецкие» «отец твой, не могши хорошо делать дело государево, лучше захотел его оставить, нежели как испортить, спрашиваясь у других; голова и сердце у отца твоего прежние, но тело состарилось, к бивуакам, да к езде»
Император все правильно понял и 21 февраля 1807 г. разрешил недужному старику уехать в Россию в его орловское поместье Сабурово-Каменское – доживать свой век.
Отдавший военной службе почти полвека, один из последних «екатерининских орлов», павловский фельдмаршал Михаил Федотович Каменский – человек по-солдатски храбрый и в тоже время взбалмошный, дерзкий и жестокий – не на много пережил своего знаменитого противника по полководческой славе А. В. Суворова, генералиссимусом ушедшего в на 70 году жизни. В 71 год Каменский был убит под Орлом, причем, погиб он не «орлом» на поле боя, а стал жертвой тривиальной криминальной драмы. Бессмертие
Существовало три версии его убийства, причем, везде в качестве убийц фигурируют крепостные или слуги фельдмаршала.
Так рассказывали, что на старости фельдмаршал подпал под влияние своей молодой (малолетней?) крепостной девки-любовницы – простой, грубой, необразованной и, притом, некрасивой. Она жила в его имении, на всем готовом. Но богатство и власть, которыми наделял ее фельдмаршал, не удовлетворяли эту женщину. Ей захотелось выйти замуж, для чего она подыскала себе подходящего кандидата – полицейского чиновника, а от старика Каменского решила избавиться. Обещанием наград, она уговорила одного 15-летнего парня из дворовых напасть на Михаила Федотовича в лесу, через который он во время поездок-прогулок часто проезжал на дрожках. Двум форейторам и лакею, сопровождавшим фельдмаршала в поездках, категорически запрещалось оборачиваться назад на барина. Вот смерть и настигла несносного старика, никогда не кланявшегося пулям, но не на поле боя и даже не на смертном ложе, а в дрожках и… со спины! 12 августа 1809 г. юный убийца улучил момент () и пока слуги, как положено, следили за дорогой, одним ударом топора разрубил фельдмаршалу череп вместе с языком. То ли все сопровождавшие старика Каменского были соучастниками убийцы, то ли – трусами, то ли неукоснительно следовали барскому наказу никогда не оборачиваться назад, но – во всяком случае они не защитили () барина. (родного брата которого до смерти забили розгами по приказу старого сатира-самодура, то ли им оказался её брат, служивший у фельдмаршала казачком?), выскочил сзади из рощи? или не успели?
В тоже время фельдмаршал мог погибнуть из-за грубого и жестокого обращения с двумя крепостными, которым он дал музыкальное образование.
Наконец, не исключали, что он погиб от руки своего конторщика, злоупотребившего его доверием и разоблаченного им.
Так или иначе, но по делу об убийстве Каменского пошло в Сибирь и было отдано в солдаты около 300 (!) человек. Правда, по слухам главная виновница кровавого преступления вроде бы осталась в стороне, благодаря протекции полицейского, за которого она вышла замуж.
, Михаил Федотович был женат на княжне Анне Павловне Щербатовой (1749 – 1826), дочери князя Павла Николаевича Щербатова (1722 -1781) от брака его с княжной Марией Фёдоровной Голицыной (1709 – 1769). По свидетельству графини Блудовой, Анна Павловна «была одной из первых красавиц своего времени, благородная душой, добрая сердцем, мягкая нравом. В замужестве она не была счастлива, и деспотический характер мужа много заставлял её страдать». Похоже, что супружеская жизнь Каменского, отчасти, была сродни суворовской. Супруги виделись довольно редко. Никого не любя, Каменский и сам не был никем любим за свой крутой, вспыльчивый и жестокий нрав. Со своей женой Каменский обращался дурно, прямо на её глазах «имея» любовниц. Будучи статс-дамой, с начала 1800-х годов она жила отдельно от мужа, который не скрывал от неё связи с простолюдинкой. Известно, что у него было два незаконнорождённых сына – Андрей и Пётр Менкасские, графского титула не унаследовавшие. В законном браке у него родились: дочь – Мария, замужем за писателем Григорием Павловичем Ржевским и два сына – в будущем очень известные генералы от инфантерии, немало повоевавшие за отечество в ближнем и дальнем зарубежье. Оба они, даже во взрослых летах, не смели ни курить, ни нюхать табак при отце. Старший – Сергей (1771—1835), генерал от инфантерии, участвовал в войнах с наполеоновской Францией, в русско-турецкой войне 1806—1812 гг.; в 1810—1811 гг. находился под начальством младшего брата, отличившись в сражении при Батине. Ревновал к славе своего брата, характером походил на отца, который, между прочим, его не любил и, случалось, поступал с ним крайне сурово, если не сказать жестоко. Так во время знаменитого скандального спора с Каховским о командовании армией после смерти Потемкина он послал за сыном Сергеем, чтобы отправить его с донесением к императрице. За опоздание на сутки отец дал сыну – уже подполковнику (!) – двадцать ударов арапником, причем, публично. С 1822 г. Сергей вышел в отставку. Дважды был женат и у него родилось 12 детей. Более знаменитый и одаренный, Николай (1776—1811), по общему мнению, был талантливым полководцем, полностью не раскрывшим себя из-за ранней смерти. Ученик Суворова (), он очень достойно проявил себя в войнах 1805 и особенно 1806 – 1807 гг. с наполеоновской Францией, командовал полком, дивизией. Возглавляя корпус, прославился в войне со Швецией 1808 – 1809 гг., где действовал по-суворовски – энергично и стремительно. Его особо привечал император Александр I и в 1810 – 1811 гг. он был главнокомандующим русской армией в войне с Турцией, болел изнурительной лихорадкой, действовал с переменным успехом, умер в Одессе в возрасте 35 лет, оставшись холостым. Отец отдавал предпочтение младшенькому, видя в нем незаурядное военное дарование, заботился о нем, интересовался его карьерой и любил с ним переписываться. В этих письмах встречаем мы различные замечания М. Ф. Каменского, рисующие его с совершенно разных сторон. Так, 18 июля 1808 г. он писал сыну: А вот в письме во время Шведской войны (1808) он писал Тогда какмать души не чаяла в старшем сыне Сергее, а успехи младшего воспринимала как несправедливость. Когда Александр I пришёл выразить ей соболезнование по поводу смерти сына Николая, она возразила: «Государь, у Вас остался старший его брат!» На исходе жизни она попала в немилость с запретом появляться при дворе из-за того, что в очередной раз взбунтовались крестьяне Каменских, доведённые до отчаяния строгостью управляющего. Умерла от сердечного приступа и была похоронена в Новодевичьем монастыре. Сестра Михаила Федотовича Каменского – Александра Ржевская, одна из первых русских писательниц. Другая сестра Анна Вяземская, хозяйка усадьбы Пущино-на-Наре. Третья сестра, Елизавета, жена сначала Евграфа Татищева, потом графа Мусина-Пушкина, а их сын стал известным естествоиспытателем. Историей рода Каменских занимался крупный советский историк А. А. Зимин, происходивший от фельдмаршала по линии матери. И последнее на эту занимательную тему: есть сведения, что пра-пра-правнучкой Михаила Федотовича Каменского может быть британская актриса Хелен Миррен, кстати, очень известная – хотя бы по скандальному порнофильму «Калигула» Тинто Брасса и Боба Гуччионе, где она в основном предстает в столь известной сметливо-слабому полу «позе прачки»… …Кстати сказать участвовал в Швейцарском походе знаменитого фельдмаршала в 1799 г. «не будь красной девкой: первый раз что случится быть наедине с Государем, чуфись и проси, как Багратиону дано, и многим другим, аренды. Вед отец твой не мильонщик; тогда можешь сказать обо мне, что ничего не приобрел собой, что ничего мне не жаловано. Не стыдись! не красней, спрос не беда». «Будучи в Финляндии, не следуй примеру прежних полководцев, не отнимай у мужиков ничего и того не терпи от подчиненных».
Никогда не боявшегося смерти генерал-фельдмаршала Михаила Федотовича Каменского похоронили в семейном склепе, в его усадьбе Сабурово, в которой он еще при жизни успел построить крепость, не имевшую аналогов для центральных губерний России начала XIX в., поскольку в основе идеи ее создания лежали впечатления полководца от многочисленных турецких крепостей.
Наверное, Михаилу Федотовичу доставляло удовольствие видеть крепость, подобную тем, что он брал во время русско-турецких войн.
Остроумный и невысокий, крепкого телосложения и приятной наружности Михаил Федотович Каменский отличался не показной храбростью, большой энергией, разумной решительностью, и большим самообладанием (), считался хорошим тактиком (), но, все же, был лишь превосходным исполнителем, а не самостоятельным командиром высокого ранга, поскольку был лишен выдающихся воинских дарований. И чем выше он поднимался по службе, тем это становилось все более и более очевидно всем вокруг. Среди русских генералов той поры он выделялся образованием и обширными познаниями, в особенности по математике и в области поэзии, которыми увлекался до конца своих дней. Издал на свои средства «Душеньку» Богдановича и сам сочинял стихи; как он сам писал: , ; В тоже время он очень портил впечатление о себе () своим крайне необузданным характером. Его горячность, вспыльчивость и, а порой, и злоба доходили до крайности. Так он, подвергал телесному наказанию даже взрослого старшего сына в высоком офицерском чине. Правда, потом резкость и жестокость мгновенно сменялись сердечною беседою, ласковостью; нередко он лукавил, охотно льстил. Он мог запросто поссориться и с сильными мира сего. Все государи, которым он служил, со временем переставали ему доверять и отказывались от его услуг. Осталось немало откровенно анекдотических историй, якобы связанных с жизнедеятельностью Каменского, которые не все готовы принимать за факты. Последний период жизни и деятельности фельдмаршала и вовсе оказался «сумасбродным». Сам Каменский слишком поздно осознал, что он всего лишь хороший исполнитель, но отнюдь не самостоятельный начальник. Правда, это задолго до того поняла императрица Екатерина, слова которой – к несчастью для него в определенной мере оправдались шестнадцать лет спустя. пулям никогда не кланялся, что весьма ценилось в солдатской среде! это признавали все – даже его лютые недруги «готовился быть Гомером» «надеялся скакать по следам Ломоносова» и сам от этого страдал «к нему доверенность иметь едва-ли возможно»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.