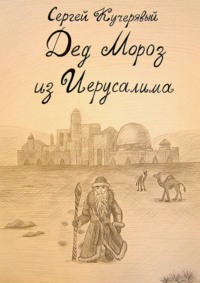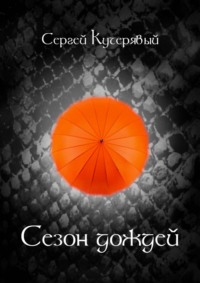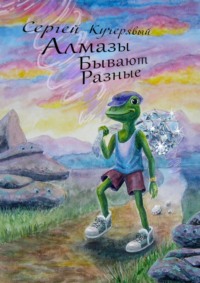Полная версия
Тени Сути. Альтернативный взгляд на жизнь и деятельность Исаака Ньютона
Заканчивая свой рассказ, Кливз не просто светился, он блистал своим тщеславием, ему так нравилось быть героем, особенно в глазах впечатлительных дам, но Глейс, как и прежде, холодно сохраняла нейтралитет. Кливз не думал, он был уверен, что под маской её равнодушия, там, внутри неё, прячется и обязательно ликует, горячо бьётся девичье сердечко, ведь эта история ещё ни разу не давала осечки.
– Ничего, ничего, – думал он, – впереди нас ожидает таверна, вечер, ужин, ну и…
Зато студент просто сыпал восклицаниями, его восторгу просто не было предела, глаза его горели, и он временами даже подрывался с места, всё выкрикивая: «Герой!» Он привставал и всё пытался заглянуть офицеру прямо в глаза, правда, все его попытки были тщетны, Кливз ежесекундно находил веский и неприметный повод перевести взгляд, дабы не встретиться с ним глазами. Он то горделиво оправлялся, то церемонно смотрел вдаль, олицетворяя настоящего человека, вписанного в историю, а то тактически примыкал к трофейной бутылке. Этого никто не заметил, кроме внутренней суеты самого офицера. Внешне виду он не подавал, он также продолжал вести диалоги, лосниться и с каждым глотком зелья в меру наглеть. Он строго шёл по выверенной им же самим некой тропе, ведущей его к победной взаимности с неприступной Глейс. Уже почти стемнело, и до очередной станции оставалось совсем немного. В это время года любой путь обычно занимал вдвое больше времени, хоть дороги были и значительно свободнее, нежели в иные природные и рабочие сезоны года. Темнело рано, а луна английского неба в пути весьма ненадёжный помощник, холода тоже брали своё, и вдобавок ко всему после полуночи, а иногда и совсем ранним вечером, туман щедро и радушно одаривал своим плотным вниманием каждую, не только низинную, но и самую обычную, магистраль. Зимой поездок было немного, но являлось ли это очередным оправданием столь редких визитов домой? Ньютон временами сильно морально болел, он никак не мог избавиться от навязчивых размышлений, он не раз пытался отпрянуть от этого странного чувства, имевшего какое-то, по сути, косвенное отношение к вине. Назвать эту тяжесть надуманной ерундой, помноженной стократ? – возможно, это было бы вполне даже уместным мнением со стороны. Основание любого фундаментального мышления можно пустить под откос, а после и вовсе отправить его в хаотичное плавание посредством нерадивых чувств и размышлений внутри человека. Но совершить такую диверсию может только лишь сам человек, собрав и соединив в себе воедино такие ингредиенты, как: пустота, извечная неуверенность, какие-то душевные травмы и серая реальность, приправленная дорогой, совместно с сомнениями, что ульем жужжат в сознании с самого раннего детства. «И вроде лет-то мне уж немало, да и сама жизнь, по идее, явление самостоятельное, но всё что-то не так. И вроде корреспонденция с домом всегда регулярна, и ссор серьёзных никогда не возникает, но почему-то каждый раз, когда в отчем доме случается какая-то неприятность, какая-то болезнь, я тут же начинаю чувствовать себя паршиво, словно бы это моё упущение. И тут же все мои мили, все мои прореженные с годами явки, все они, чуя момент оказии, мгновенно начинают тяжелеть где-то там внутри. А те полярные чаши немого диалога, они так же непримиримо начинают асимметрично довлеть и склонять больную голову к черте, кутая зачем-то мою и без того изъеденную совесть в хлипкое пальтишко каких-то там взрослых оправданий. И каждая та отсчётная миля является мне кошмаром, они в своём общем объёме предельно схожи с той мириадой капель, что мерно и едко падают в сосуд, в котором регулярно плодятся, да, по большей части надуманные причины какой-то вины, но легче от того знания, что все те версии вымышленные, никак не становится. Да к тому же в топку воспалённого мышления торжественным излишком обязательно влетит ещё и то пресловутое, испепеляющее „если“. И ведь эту сволочь же не выкинешь, не вытравишь просто так, ты это „если“ вроде давишь с одной стороны, а оно с другой стороны уже праздным артистом кружит, так и показывая сознанию все свои колеблющиеся „если“-сцены», – Ньютон, конечно, пытался гнать от себя все эти образы, но едва ли он переключался на цифры или же начинал думать о космических просторах, как тут же память выдавала лица близких, ушедших Исаака Барроу и Генри Ольденбурга. «Надо же, двое единственно честных, совершенно не меркантильных, настоящих учёных, два ближайших мне человека, и оба они ушли», – вновь и вновь скорбел Ньютон. Сидя в карете, он изредка даже уже пытался вслушиваться в речи попутчиков, но и это занятие ему также особо не помогало отвлечься. И чем темнее становилось за окном, тем быстрее внутри него начинал вращаться тот отчаянный принцип паранойи, который совершенно не позволял ему остановить своё внимание на какой-либо одной теме. Всё получалось напротив, словно бы каким-то умалишённым образом, его центробежная мысль бесконтрольно начинала прыгать и скакать по всем глубинам его научной трясины. Подобные состояния были не новы, и те ковыряния, что за столь продолжительную вереницу лет так и не сумели отыскать выход из этого лабиринта, они смело по случаю могли бы претендовать на полноценную формулу бинарного кода жизни, где в периодах графика красовались бы отношения между внешним и внутренним миром человека. А основой этому научному изысканию, конечно же, послужила бы любимая фраза Ольденбурга: «Лишь имея душу, сознание человека может обрастать терзаниями». Не так давно, в начале 1670-х годов, когда ещё то открытое сердце Ньютона и его искренняя вера в людей, в общее дело чуть ли не покрылись льдом тотального разочарования, тогда-то Генри Ольденбург и явился ему тем спасительным маяком в жизни. И пусть его вера в людей особо-то и не восстановилась, тем не менее поддержка мудрого председателя Королевского общества была своевременна и критически необходима. С тех пор сэр Ньютон и научился не растрачивать попусту свой энтузиазм, пусть эта привычка и сулила ему путь научного отшельника, что, в принципе, было по душе Исааку Ньютону, но также это тяжкое полусумасшедшее бремя позволяло ему иначе и с каждым годом всё глубже смотреть на мир.
А дилижанс тем временем на всех парах мчал по направлению к городу. Вдали уже виднелись огни, и малость взмыленные кони, обгоняя густеющую темень, резво били звонкий галоп по широкому накатанному тракту, приближая уже всех изрядно уставших пассажиров к заветному дому, а кого и просто к дорожному ночлегу. Благодаря весёлому офицеру тишина не была наполнена томящим предвкушением скорого прибытия, которое всегда, везде и всюду имеет особенность неистово тяжелеть в последние часы, минуты ожидания событий. Настроения это, конечно, никому не добавляло, зато лишний раз никому из салона не позволяло погружаться в размышления. Мысли-то были у всех, но какова была их градация и глубина в каждой отдельно взятой голове – это снаружи, увы, узреть никак невозможно. И если изначальная серьёзность Исаака Ньютона с виду всегда была явной и чрезмерно обозначенной, разумеется, давая всем окружающим понять, что человек этот глубок и мысли его сравнимы с томами Александрийской библиотеки, то вот с менее грузными людьми подобная ситуация может складываться несколько иначе. Штаб-сержант Кливз к вечеру снаружи был вроде, как и прежде, весел и громок, но вот судя по его нарастающему вою где-то в глазах, что пытался он глушить алкоголем, становилось ясно, что там, внутри него, есть какая-то тайна, какая-то боль, что незримо сидит там каким-то червячком в поношенных галифе и поедает его изнутри. Кливз всё сидел и изрядно пьянел с каждым новым глотком, что-то его очень сильно тревожило и выкручивало наизнанку, иногда он отчего-то был готов даже выть, вероятно, по причине того, что ничего нельзя вернуть и уж тем более исправить. А дело было так: история та, которую он давеча так горделиво рассказывал попутчикам, она действительно случилась на войне, но рассказывать её в оригинале офицер никому и никогда не собирался. Та его боевая история иного изложения, конечно, имела некие достоверные факты, но основной сюжет того фольклора приходился как раз таки на тот корень истории, где сержант Кливз – герой, где он весь такой благородный и настоящий, одним словом, идеальный мужчина для топки девичьих сердец. Собственно, и в этот раз всё должно было пойти по запланированному маршруту, но тем вечером Кливз встретил горящие, восторженные глаза юного студента, он попросту наткнулся на них, рассказывая про все свои геройства. Тут-то и зашевелилось в груди, ожил тот его червячок и принялся скоблить душу. Глаза этого студентика были точь-в-точь как те глаза его товарища, что пристально смотрели на него, внезапно покидая жизнь. Тот солдат, что так внезапно и нелепо пал из-за какой-то глупости, к которой Кливз на этот раз уж достоверно и по-настоящему был причастен. В кебе он то и дело пытался уйти от взгляда студента, думал, показалось, но позже, когда история была уже в разгаре, там-то он вновь и встретил те знакомые горящие глаза, что прожигали его уже насквозь. А шли они тогда действительно по лесной утренней тропе, и их группа вправду, так же как и в истории, находилась в дозоре, и подходили они так же к условной черте, за которой, вполне вероятно, мог бы быть враг. Там-то и случился этот конфуз, где также были и яйца, и гнездо, правда, на этот раз без заботливой птицы. Но самое главное, что обнаружил-то их тогда не кто иной, как сам Кливз, тогда ещё молодой рядовой и глупый. В карауле Кливз был до ужаса неуклюж, он хрустел сухими ветками, ступая на них, словно бы медведь, в то время как в воздухе, наряду с интуитивным запахом опасности, повисла ещё и некая гробовая тишина, что обычно всегда предвещает беду.
– Кливз, твою мать! Что ты как слон индийский?! Аккуратнее иди, – шёпотом на него ругался командир, – иди! Слышишь? Иди, проверь вон те кусты.
Кливз тихонько подошёл, отогнул увесистую ветку, что свисала прямо до самой земли, и как заорёт:
– А-а-а-а-а, змея-я-я-я, змея-я-я-я, а-а-а-а-а…
В тех кустах можжевельника пухлый Кливз как раз таки и обнаружил то самое гнездо с яйцами, в котором уютно завтракала змея. Но всё бы ничего, если бы не то, что в паре шагов от этой сцены действительно находилось двое маскированных солдат вражеской стороны. И те, и эти резко подорвались и, реагируя на такую-то сирену, буквально в какие-то считаные секунды ретировались по сторонам, и прозвучало три роковых выстрела. От такого мгновения один английский солдат упал сразу и почти бесшумно умер, так и не поняв, что с ним произошло. Именно его глаза, этого юного человека, тогда пристально смотрели на Кливза, в час, когда жизнь его так внезапно оборвалась. Те два голландца, кто их знает, как бы они себя проявили, если Кливз не заорал бы дурниной? Вопросов тогда у командира и рядового Кливза была уйма, и все они были без ответа. Зато, когда едва ли они отступили от пограничной линии, взбешённый командир очень желал услышать своего туповатого подопечного.
– Ты… ты… чего ты орал-то?
– Там змея, змея там была! Она яйца там ела. Я, это, ну, внезапно всё так, она там, это… Я испугался, что она может кинуться на меня.
– Ты придурок, Кливз! Лучше бы она твои яйца съела! Куда бы она тебя укусила, а, булочка ты сдобная? В сапог бы она твой ужалила из крепкой кожи? Куда ей тебя кусать? Придурок! – штабс-капитан никак не мог ни отдышаться, ни поверить до конца в произошедшее. – Значит так, в докладе полковнику я поведаю только то, что мы просто наткнулись на засаду, и всё. Понял? – он порывисто бросил в него свой комок ненависти и тут же подскочил к нему вплотную, желая порвать его на куски, но скрежеща зубами и раздувая огненные ноздри, он, понизив тон, продолжил: – И запомни! Запомни, сволочь, эта смерть, смерть нашего солдата, она на твоей совести!
Вскоре этого командира и самого не стало, он пал смертью храбрых в ближайшем сражении. И выходило так, что живых свидетелей того лесного инцидента никого больше-то и не осталось. Голландцы те наверняка мертвы, солдат тоже вместе с командиром отправился в мир иной, а совесть… а что совесть? Изредка, конечно, она его мучила, особенно когда он надолго оставался наедине с собой, но это случалось не так уж и часто. А тут дорога, дилижанс и глаза эти вдруг…
За окном уже мелькала окраина, огни улиц и домов заглядывали в кеб, внося своим мерцающим светом какое-то торжество долгожданного свершения. Спал только студент, по-детски сопя и гулко ударяясь головой о балку каждый раз, когда карета вынужденно подпрыгивала на городских каменьях. Ньютон, как и прежде, продолжал быть идеальным пассажиром, сидел тихонько, никуда не встревал и молчал, будто бы его здесь и вовсе нет. А Кливз, одолжив смелости у алкоголя, всё же решил взять и небольшим напором атаковать эту неприступную крепость – миссис Глейс.
– Вы так прекрасны, миссис Глейс! Не хотите ли составить компанию и отужинать со мной?
– Нет.
– А почему? Позвольте поинтересоваться, – удивлённый отказом, он спросил слегка заплетающимся языком. – Вам не понравилась моя военная история?
– Нет.
– Ну хорошо. Ну, дайте же мне шанс. Позвольте мне рассказать вам другую историю, у меня они есть. Накопилось, знаете ли, за жизнь-то мою непростую. Ну так что, я могу надеяться?
– Нет.
– Ну что с вами такое? Вам срочно нужна компания, я это прям чувствую, – придвинулся он к ней, прежде сделав ещё один добрый глоток, – я вам про что угодно расскажу! Вот однажды у нас в полку…
– У меня брат в армии погиб. А дядя на войне, – холодно молвила она, – а сейчас я еду на похороны другого моего дядюшки. Чем вы хотите меня утешить?
Глейс без раздражений, без единого упрёка повернула, наконец, голову и вперилась в кривое от хмеля лицо офицера. Её грустные и одновременно чарующие глаза добили его окончательно, отчего он, естественно, не протрезвел, не покраснел и даже не извинился, он просто замолчал и привычно засопел. А тем временем улица за окном окончательно засветилась обилием вечерних огней славного города Питерборо. Вскоре угрюмый низкий голос кучера объявил: «Приехали». И открывая дверцу дилижанса, он не ринулся сразу прочь, как непременно сделал бы он в любой другой раз, кучер Пол, слегка потупив голову, честно стоял и намеревался сопровождать вверенного ему мистера по всем надобным пунктам мотеля.
– Наконец-то дотелепались! – Кливз, вопреки всем правилам этикета, выскочил первый, понаступав при этом всем на ноги и обтерев всех своим пузом, а после с весьма недовольным лицом он принялся осматривать близлежащие здания, будто бы торопился куда-то опоздать. – Чем это так воняет? А?
– Это с болот, мистер Кливз, – крикнул студент, следом вылезая из кареты. Он потянулся и, бодрясь, начал энергично подпрыгивать, стоя на месте, – это болота у нас тут. Их осушают. Как ветер с северо-востока начинает дуть, так запах болот по улицам и гуляет.
– Всё понятно с вашим городком! Эй, кучер, где там что находится? Ай, ладно, сам разберусь.
Нервный, весь дёрганный, незнамо на кого обрушить свою претензию, Кливз ускоренным шагом направился к ближайшему трактиру. Площадь была небольшой и округлой, с милой летней клумбой по центру, местами стояли такие же кареты иногородних маршрутов, стоял тихий, немного зябкий вечер. Казалось бы, эта привокзальная площадь со всех сторон была окружена всевозможными тавернами, пабами, домами с номерами и прочими гулкими заведениями, но тем не менее вокруг было тихо. Спокойствие зимнего вечера Питерборо разбавляли своим фырканьем и звонким битьём подков о вымощенные каменья площади разве что лошади. В подобных местах из местных горожан мало кто появлялся, ежели только те, кто из особо ночного контингента, кто-то из забулдыг, игроков или же кто-то из бандитской кодлы. В общем, из приличных, честных лиц там обычно были лишь транзитные граждане, которые наскоро и сносно ужинали, а затем так же неприметно спешили поскорее в свои затёртые номера, дабы мирно провести там несколько часов сна и утром продолжить свой путь. Снаружи площадь казалась и виделась всем тихой, немноголюдной и абсолютно смирной, как, впрочем, виделся таковым и весь город целиком, но что скрывала эта площадь внутри, что она прятала там, за той неприступной чертой спокойствия и за стенами этих светло-коричневых зданий? Кучера, конюхи, ремонтники и прочие дорожники, они обычно держались своими компаниями, в стороне от пассажиров и местных азартных уголков. Становясь под освещённым навесом, они, как правило, починяли неисправности, обменивались свежими байками, грубо шутили и выражались на своём простом языке, ели, пили и даже играли в карты, в кости на деньги, но строго только среди своих. Пол никогда не спешил присоединяться к ним, да и доверчив он был как ребёнок, несмотря на его полнейшее сходство с суровым викингом. А вот напарник его Джек, тот был, напротив, заядлым игроком. Угрюмый Пол выдал багаж студенту с мисс Глейс, и они вмиг растворились где-то в тиши своих направлений. Указав мистеру Ньютону на одно из самых обветшавших зданий, он, шаркая косолапой походкой, негромко бормотал по пути пояснения: – Вы, мистер, не смотрите на внешний вид, таверна эта и гостевой дом, они лишь снаружи такие, а внутри, напротив, в них, знаете, поуютнее будет, нежели там, в этих вон, – хотел он было ругнуться, да прервался, лишь показав рукой на некоторые соседние заведения. Редкие прохожие шли навстречу, был ещё не столь поздний час. Ньютон не то чтобы равнодушно смотрел на них, он в принципе ничего не замечал извне, ни прохожих, ни сквозняка с болотным подтекстом, ни говора Пола, – здесь, знаете, и чисто, и натоплено, и есть можно, не опасаясь за живот. Я и хозяев хорошо знаю. А то вон в этих вон, – он снова чуть было не матюгнулся, – сколько уже раз-то было такое. А они туда всё равно прутся, как эти, как мухи на… Сэр, вы не переживайте, я хозяйку попрошу, чтобы она вам всё показала, рассказала, а утром за час до отправки разбудила.
Конечно же, Пол обо всём договорился, иначе он просто не умел. Их заботливо встретила женщина лет пятидесяти с добрым, располагающим к себе лицом. Пока Пол тихонько ей что-то объяснял в стороне, её худощавый, молчаливый и весьма обходительный муж, бывший военный, принимал у Ньютона одежду. Хозяйка тут же вернулась, по пути охотно и одобрительно кивая Полу головой, взяла в руки большой горящий подсвечник и направилась показывать постояльцу его комнату. По лестнице они поднялись на второй этаж, откуда был виден весь холл целиком, там за большим столом ужинали: семья с ребёнком, какая-то юная особа и несколько мужчин. Они не были знакомы друг с другом, и более того, они даже и не собирались этого делать. Заприметив ещё одного поднимающегося гостя, они, не обратив на него никакого внимания, продолжали доедать свой ужин. Кем хозяйка приходилась Полу, было неизвестно, быть может, он от своей гинеи и заплатил ей какую-то часть, но главное, что этому новому посетителю эти хозяева оказывали особый уход. Ужин, естественно, чуть позже принесли в номер, точнее, что от общего стола осталось. Какая-то то ли похлёбка, то ли гуляш из гороха, паприки, грибов и говядины, там же, на подносе, был ещё пирог с рыбой, которого, собственно, Ньютон и отведал, задумчиво стоя у окна и привычно кроша едой на пол. Он вновь оглянулся: стол, медный подсвечник, занавески бордо, вид из окна такой же похожий – всё это возникло пред ним как-то разом, возникло неким скопом и тут же встряхнуло его память. Наверх снова поднялась горечь, пламя и пепел вновь усиливали тот скрип души, что непередаваемой пустотой звенел внутри Ньютона, напоминая обо всех канувших, о сгоревшем его жилище и о необратимости его жизни. Ньютон давно уж имел эту никому не любую привычку стоять у окна и крошить каким-нибудь куском пирога, молча глядя куда-то вдаль. Только вот раньше за собой этой привычки он не замечал, а тут и условия иные, и город чужой, но всё тот же в горле ком. Его внутренний мир, впрочем, как и сама ось его жизни, они никогда не тормозились о какие-нибудь бытовые и осязаемые вещи, зато вот мир чувств и воображений, они-то и являлись основой многих его и открытий, и переживаний. С годами Исаак Ньютон не растерял, не утратил ни грамма той детской наивности, он даже, напротив, усовершенствовал её. В своём молчаливом обиходе он очень много чего фантазировал и представлял, глядя на мир всё тем же детским, нестрогим взглядом, а после он точно так же мысленно брал и с лёгкостью накладывал все эти воображаемые силы, формулы, проекции, тела, энергии на реальность окружающего мира. Таким образом он всё пытался понять, осмыслить все те когда-то возникшие на Земле загадки, понять и, быть может, даже объяснить какие-то причуды природы, непознанной жизни и Вселенной. А загадки те, объективно говоря, были всё те же, что и у всего остального человечества, и по большому счёту всегда выходило так, что мир в целом – это и есть тайна. Ведь куда ни плюнь, куда ни ткни пальцем – всюду есть загадка, всюду присутствует нечто до конца не ясное, но при этом давно облачённое в обыденную привычку жизни. Но самое интересное то, что все они поэтапно, словно бы опираясь на какие-то небесные часы, дозированно выдаются текущему человечеству в виде неких намёков и озарений, позволяя тем самым к сроку совершать очередной шаг эволюции. И покуда человек будет существовать как вид, столько времени и будет функционировать весь этот волшебный механизм. И так вот каждый раз, когда интерес и страх непознанного жгучим перцем азарта подначивали дух Исаака Ньютона, он с головой погружался в мир своих абстракций, заглядывая порой даже за грань. И стоя у ночного окна, он, сменяя образы в тяжёлой голове, сам того не заметил, как лёг, не снимая одежды, на старую тахту и погрузился в сон. Квартиры и комнаты английских населённых зданий всегда отличались особой слышимостью, так как все они имели перегородки едва ли толще бумаги, отчего какие-то отдельные шевеления в общем оркестре мотеля могли остаться и вовсе незамеченными. За окном была ещё темень, но негромкие звуки, шедшие с кухни, с холла, а также с рабочих кузниц, что располагались недалече и слегка уже позвякивали молотками, говорили о том, что солнце скоро уже встанет и начнётся новый день. Сэр Ньютон проснулся вовсе не от шума этой утренней возни, не даже от заезжей гульбы, что умеренно жужжала мужскими гомонами за стеной, он проснулся, как обычно, просто так, поперёк всех законов сонной неги. Уже более года он спал от случая к случаю, да и то тот сон был скомкан и не имел ни единого намёка на расслабление. Привычно и бессмысленно он минут десять кряду потаращил глаза куда-то сквозь, встал и засобирался вниз. Вечерний чад и плотный уют за ночь почти осели, а утренняя прохлада осторожно разбавляла их своими вкрадчивыми покалываниями остывшей сырости, что тянулась с улицы и постигала холл. Ньютон молча выпил предложенный таким же молчаливым хозяином чай и покинул заведение. Профессор, как и прежде никого не замечая, ни сомнительных заведений, ни цепких глаз, стоящих близ их дверей, просто куда-то шёл. Внутри было такое гулкое состояние пустоты, что им не замечалась даже эта утренняя мерзость прохлады, и не знакомясь со своими отдалёнными побуждениями, он просто решил немного пройтись пешком по площади, благо масляные фонари местами были ещё зажжены. И самое пагубное в подобной ситуации то, что в где-то там, внутри головы, всегда найдётся какой-нибудь собеседник, ведь всегда приятно побеседовать с умным человеком, как любил шутить Исаак Ньютон. Правда, эта шутка вне близкого окружения редко когда могла вызвать улыбку на лицах, а иногда она была и вовсе чреватой. Учёная травля и завидная подлость всегда были с ним где-то рядом, неважно, какого местечкового значения были те плевки, или же масштаб уходил в глубины английского Королевского общества, всё равно довести подлость до точки ни у кого не получалось. Да, были те, кто истерично, с пеной у рта, громко доказывал всем, что шутка эта с внутренними беседами есть не что иное, как разговор с дьяволом, и что такое изуверство не может быть приемлемым знанием в христианском мире. Исаак Ньютон хоть и не был знаком с тонкостями востока, в отличие от его друга и соратника Исаака Барроу – любителя мистицизма и философии, но тем не менее, сам того не подозревая, он пристально склонился к одной мудрости Лао-Цзы: «Знающий не говорит, а говорящий не знает». И теперь, неспешно бродя от фонаря к фонарю по пустынной площади, Ньютон, как истинно знающий, ступал мелким вдумчивым шагом и молчал обо всём и сразу. И в какой-то момент своего променада Ньютон как-то уж слишком глубоко увлёкся дилеммами, что, сделав круг по площади, он устало вышел к свету и подпёр столб плечом. Внутренний сумбур той беседы у фонарного столба продлился недолго, ровно до тех пор, пока охваченный безумием Пол, придя за час до отправки в мотель и не обнаружив его там, не пустился на поиски вверенного ему мистера. Но до того, как перепуганный кучер подскочил к профессору, Исаак Ньютон, объятый внезапной вспышкой ясности, кое-что понял, стоя у деревянного столба и искоса глядя на огонь внутри фонаря.
– Лампа. Плафон. Свет. Огонь. Не светимость же этого провинциального плафона меня так поразила и притянула к себе? Нет! – словно бы над пропастью витали его идеи, а он будто стоит где-то рядом и полной грудью пытается вдохнуть те искры озарения, что кружат неведомой стайкой у фонарного столба. – Свет в данном контексте есть тепло. Но и это здесь не главное. А если взять и наложить сюда мою теорию? Выходит, что та сила, которая тратится на выделение тепла, она прямо пропорциональна дальности его распространения. М-да, это интересно. Но и это не то! Куда это всё тепло девается?