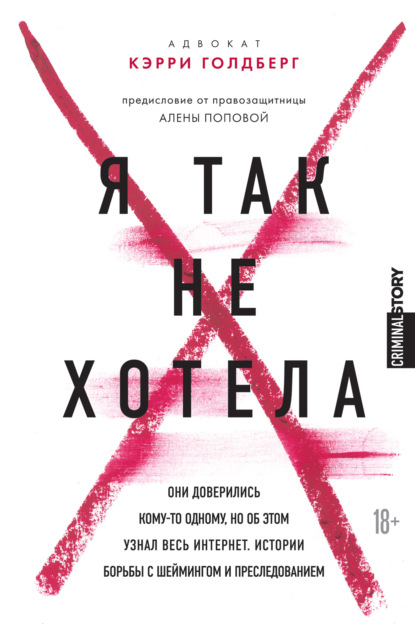Полная версия
Заставить замолчать. Тайна элитной школы, которую скрывали 30 лет
Мистер и миссис Лэйн стали признаком того, что все в порядке. Они приняли моих родителей точно так же, как мои первые подруги в школе Св. Павла – сразу же, с той же убежденностью в своей способности помочь и с той же надеждой на благодарность. Впрочем, не важно. Это было приглашение на бал. Его фамилия была памятником истории, а его жена была еще лучше – миниатюрная обожаемая дочка богатых родителей, выросшая среди холмов Северной Каролины.
В известной мере Лэйны были инициаторами моего отъезда в частную школу. Если у них это получилось, значит, так и было нужно.
«Да, он типа как крестный, – сказала я вашингтонской. – Не крестил меня, но сейчас реально вовлечен».
«Женат?» – спросила нью-йоркская.
«Конечно».
«А жена тебе нравится?»
«Обожаю ее», – сказала я подругам.
Я считала, что мистер Лэйн едва достоин такой жены. Они жили в пятиэтажном каменном особняке на самой чудесной улице самого фешенебельного района Чикаго, но двери она всегда открывала сама – босиком и без макияжа. Брала тебя за руку и вела внутрь. Не заставляя детей почувствовать себя детьми, а женщин – нежеланными гостьями. Она дарила изумительные подарки – серебряные шкатулки и вазы дутого стекла, запакованные в полосатые коробки. К ее неизменному расположению время от времени примешивалась какая-то заговорщическая таинственность. В ее окружение входили умные и талантливые люди. Ее везунчики-дети были на несколько лет младше нас с братом.
Меня напрягали усы мистера Лэйна. Меня не впечатляли его рассказы о гонках на спорткарах по проселкам Мичигана. (Меня больше заинтересовала мамина история о том, как на званом ужине он откусил кусочек шоколадного торта и, обнаружив в нем половинку фисташки, был вынужден извиниться и выйти в туалет, чтобы вколоть себе адреналин во избежание верной смерти. Столь же пугающие примеры уязвимости взрослой жизни встречаются нечасто. И, разумеется, эта была история о том, что значат манеры, то есть о том, что можно скрытно сделать, не нарушив ход званого ужина.) Однако отец общался с ним с огромным удовольствием. И разве я могла винить родителей в том, что они сочли своего рода триумфом, когда папе было предложено войти в узкий круг мужчин, ежегодно в августе ходивших на яхте мистера Лэйна в круиз по Эолийским островам?
Его приглашение на ланч стало для меня реальным событием. И этот ланч прошел так удачно, что он сказал, что прилетит на своем самолете в Нью-Гэмпшир и сводит меня поужинать, когда я начну учиться в школе Св. Павла. До сих пор я как-то не воспринимала эту идею всерьез. И почему это я не замечала такие козыри у себя на руках?
«А что у него за самолет?» – спросила нью-йоркская.
«Не знаю. Он сам его пилотирует».
Немного подумав, она сказала: «Ты должна это сделать. Когда он прилетает?»
Такая вот грамматика избранных: от повелительного «должна» к настоящему длительному, от условного к определенному, не моргнув глазом.
А ты сможешь так же, и чтобы все вокруг все поняли?
«На Рождество», – сказала я. Рождество вроде подходило.
«О, здорово. А он сможет нас на Вайнъярд доставить?» – спросила вашингтонская.
«Не дури», – сказала нью-йоркская. – Он же к Лэйси. Это клево».
После моего рассказа о мистере Лэйне девочки смотрели на меня как-то иначе. Знай я раньше, упомянула бы об этом в первый же день нашего знакомства. Прицепила бы к своему бейджику новенькой. Написала бы в записке Шепу.
Мистер Лэйн так и не прилетел ко мне. Но на рождественской вечеринке он подарил мне дамскую шляпу-котелок в перевязанной лентами коробке, а его жена открыла свой атласный клатч и разрешила мне взглянуть на ее короткоствольный пистолет с перламутровой рукояткой, который носила с собой по вечерам. Это был первый пистолет, который я увидела в жизни. Больше этот пистолет не выстрелит. В отличие от этого мужчины.
Звоня той осенью домой, я никогда не спрашивала, когда мистер Лэйн прилетит и поведет меня ужинать. Вместо этого я рыдала и умоляла родителей позволить мне вернуться. Приходилось звонить из телефона-автомата за спортзалом, потому что я не хотела, чтобы это слышали другие ребята. Я переходила через дорогу и плакала в телефонную трубку до трех минут десятого. Заканчивала разговор, вытирала слезы и возвращалась к вечерней проверке.
Мать воспринимала мои рыдания в телефон очень спокойно. Трубку брал отец: «Ты должна постараться. Нужно потерпеть».
Что я могла сказать, чтобы прозвучал сигнал тревоги? Как матери, мне приходит в голову немало всего. Лифчик Шайлы, мои одинокие изыскания по теме холокоста, уроки очищения желудка в туалете. Полные бутылки водки в моих руках в комнате моих урбанизированных подружек. В те годы ребятишки любили именно эту марку с золотистыми буквами на этикетке (и недаром сын Александра Солженицына, живший в корпусе напротив плаца, получил прозвище Столи). А если бы я рассказала про книгу новичков, в которой девочки оценивались по десятибалльной шкале? В том семестре даже мои подруги из больших городов вытаращили глаза, узнав о том, что их новую соседку по общаге, миниатюрную лыжницу добрейшей души, избил ее бойфренд, учившийся двумя классами старше. Я пытаюсь припомнить, не тогда ли я узнала, что преподаватель предпрофессиональной балетной подготовки сказал своим ученицам, что секс улучшает выворот стоп. Пытаюсь вспомнить, не той ли осенью мальчики из выпускного класса заменили пергидролем шампунь во флаконе чернокожего ученика, и его шевелюра стала оранжевой, как кленовая листва. Не тогда ли был случай, когда они навалились на ученика-сикха и сорвали с него тюрбан.
Личные беды, о которых я сообщала, не слишком трогали моих родителей. Я рассказала, что в один из дней услыхала, что этажом ниже девочка на класс старше меня крутит мою любимую песню Кейт Буш. Я сбежала вниз в ее холл сказать, как мне нравится эта песня, но она просто уставилась на меня реально тяжелым взглядом. До меня дошло, что мне, как новенькой, вообще не положено заходить в этот холл, и уж тем более заговаривать с ней. Она продолжала пялиться, а я ретировалась через запасной выход и пошла обратно к себе – на кровать новенькой в комнате новенькой и со своими чувствами новенькой. Туда, где мне полагалось быть.
«Что ж, очень жаль», – сказал на это отец.
«Может быть, она такая застенчивая, – сказала мама. – Может быть, не расслышала тебя. Ты сказала, что музыка громко играла. Хочешь, я позвоню вашему психологу и поговорю с ним об этом?»
Мама не возражала против моего возвращения домой, но папа был тверд. «Ровно один год. Тебе нужно продержаться этот год, потом решим, как быть дальше».
Я выбросила козыри: у меня злая соседка по комнате. Вчера, когда я одевалась, она смотрела на меня из другого конца комнаты, а потом сказала, что ей хочется иметь мою грудь и живот, а бедра и попу оставить свои.
«Может быть, она хотела сделать тебе комплимент».
«Да, она тебе завидует».
«У меня нет бойфренда».
«Ну а что, разве у всех есть бойфренды? Надо бы тебе сосредоточиться на учебе».
«У меня не получается обзавестись подругами».
«А что эти милые девочки, с которыми мы познакомились на родительских выходных?»
«Каждые выходные они ездят на Мартас Винъярд со своими бойфрендами».
«Это выглядит неприлично».
«Да уж, оставайся-ка ты лучше в школе. Используй это время для знакомства с народом!»
«Мне тут не место».
«А вот и нет. Учителя столько всего сказали, когда тебя принимали в школу. Говорили, какая ты умная и способная».
Стоять у телефона-автомата становилось холодно. Я топталась по заледеневшему гравию.
«Кстати, а ты слышала про Сесиль? – спросила мама. Это была моя одноклассница по начальной школе, которая той осенью тоже уехала учиться в частную школу. Ее отправили в Сент-Джордж на Род-Айленде. – Она только что вернулась домой. Сдалась. Не потянула».
Когда в преддверии Дня благодарения нам наконец-то разрешили съездить домой, я поехала в аэропорт в одной машине с Габи. Мы с ней были из одного города и когда-то вместе ходили в детский сад, а теперь она училась в нашей школе классом старше. Рыжеволосая Габи носила длинную челку и даже не выглянула из-под нее, когда я залезла в наемный лимузин и устроилась на противоположном конце заднего сиденья. Не говоря уже о том, чтобы улыбнуться мне. Я слишком устала, чтобы придавать этому значение. Впрочем, ее неразговорчивость в какой-то мере импонировала мне: она выглядела циничной, а это свидетельствовало об индивидуальности. А еще я знала о ней кое-что любопытное – по вечерам она любила мыть ноги в раковине. Я узнала об этом годом раньше от своего одноклассника Коннора, который безнадежно влюбился в Габи. Максимум, чего он добился в своих попытках ухаживать за ней – были ежевечерние бессвязные и путаные телефонные разговоры, которыми мы в то время увлекались. Во время этих бесед Габи, по словам Коннора, мыла ноги в раковине. Он слышал плеск воды и мягкие шлепки ее намыленных ладоней. Закончив разговор с Габи, Коннор иногда звонил мне – только для того, чтобы поговорить о ней.
Я не возражала. Коннор меня ни разу не интересовал, но в любом случае меня завораживал образ Габи, балансирующей перед раковиной с телефонной трубкой, зажатой между плечом и подбородком. Сама я пользовалась исключительно душем. Я была заядлой теннисисткой, что означало, что летом меня украшали засохшие потеки пота и крема от загара. Я никогда не мыла только ноги. Мне такое и в голову не приходило. Для меня это выглядело роскошью на грани неприличия. А заниматься этим ежевечерне и в полном одиночестве? Да это прямо-таки священнодействие какое-то. Мне нравилось представлять себе это.
Иногда во время телефонного разговора с Коннором я пыталась подставить свои ступни под кран. Но ванная была маленькой, а стойка умывальника высокой, поэтому я падала. Мама шла на второй этаж и спрашивала с лестничной площадки: «Надеюсь, ты не на унитазе с телефоном?»
Перед отъездом на учебу она организовала мне ланч с Габи и еще одной ученицей нашей школы из Чикаго. Хелена была дочкой влиятельной благотворительницы, заседавшей в попечительских советах больниц, учебных заведений и музеев. Ей, как и Габи, предстояло учиться классом старше меня. Предполагалось, что, будучи старше, уже отучившись год в частной школе и принадлежа к семье, известной своей готовностью помочь, она проявит ко мне максимум доброжелательности. Я встречусь с Габи и Хеленой в центре города, где живет Хелена, и где-нибудь там же мы и перекусим. Потом мы с Габи сядем на пригородный поезд и через час приедем в наш городок. Таким образом, даже не ступив на территорию школы, я уже обзаведусь двумя подругами.
Так не получилось. В гостиной дома известной благотворительницы Хелена спросила, кто моя «старшая» – то есть ученица выпускного класса, которой поручено быть моей заступницей и подружкой на первом году учебы. Действительно, я получила очень милое письмо от девочки, которую выбрали на эту роль для меня. Она поздравила меня со вступлением в школьное сообщество и, зная, что я играю в теннис, обещала познакомить со своей соседкой, звездой местной команды. Еще она пообещала найти меня сразу же по приезду в кампус, чтобы помочь мне освоиться. Когда я назвала ее имя, Хелена с Габи покраснели, переглянулись и расхохотались.
Мне было невдомек, что вызвало такую реакцию. Может быть, там никого не было с таким именем? Или я произнесла его неправильно – Сьюзи?
«Да ладно, ничего, – наконец-то сказала Хелена. – Она просто типа отстой».
«Ах, вот как».
«Она типа… негабарит».
«Ах, вот как».
Я была или слишком юна, или слишком впечатлена, чтобы разгневаться в ответ на жестокость. Вместо этого я принялась переустраивать свой мир. Я решила, что написавшая мне старшеклассница на самом деле не мила и приветлива, а самое настоящее ничтожество. Приеду в школу и выясню, почему.
Потом они поинтересовались, в каком корпусе я буду жить. «В Уоррен-хаус», – сказала я, довольная тем, что не забыла, что говорилось в официальном письме, присланном нам домой. На этот раз на их лицах застыл ужас. Что может быть хуже? За что мне такое несчастье?
«Да ладно, ничего, – снова заговорила Хелена. – Просто это новая общага, на отшибе от типа всего на свете».
Ну что же, по крайней мере, я буду знать, где центр кампуса и где предпочтительнее жить.
«В Уоррене я вообще никого не знаю», – добавила Хелена, как будто я еще не поняла, кто она такая.
«Келли запихнули в Уоррен», – сказала ей Габи.
Это была девочка, чья музыка привела меня к ней на этаж, а убийственное молчание заставило безмолвно убраться обратно. Понимание этого упало в мое сознание как монетка в прорезь, когда я стояла и пялилась на то, как она пялится на меня. «Келли. Ну да, конечно. Тебя же запихнули в Уоррен». Она дружила с этими девочками, но тогда, сидя в гостиной Хелены, я ничего об этом не знала и ждала, когда мы отправимся на ланч.
«А, действительно. Это дерьмово», – сказала Хелена.
По пути в ресторан Хелена взяла Габи под руку и пошла с ней по тротуару впереди меня. Я старалась не отставать, чтобы слышать их разговор. «Вау, Габи. Мы уже в следующем классе», – сказала она.
Я не знала, что и сказать. Зациклилась на мыслях о большой Сьюзи и моем бестолковом общежитии. Легкая опьяненность полной неизвестностью уступила место уверенному унынию. После ланча в кафе универмага Neiman Marcus (американская сеть люксовых универмагов. – Прим. пер.) (мама побаловала меня несколькими двадцатками), Хелена вызвала такси. Я думала, что мы с Габи отправимся домой. Раньше, чем я рассчитывала – ничего хорошего не произошло, а я так надеялась на что-то хорошее, – но в поезде я испытаю облегчение. Может быть, мы с Габи поговорим. У нас есть общие темы: Коннор, летние вечера в нашем городке и эта громадная нью-гэмпширская школа, в которой мне предстояло дебютировать.
Хелена шагнула вперед, чтобы открыть мне дверь такси. Так любезно, так по-взрослому, ведь в конце концов она была дочерью очень известной матери. Я скользнула на сиденье. «Северо-западный вокзал», – крикнула она водителю, захлопнула дверь, и машина отъехала от тротуара. Рядом с ней стояла Габи. Они избавились от своей обузы.
За окнами машины проплывали городские кварталы. Я с интересом разглядывала затылок водителя. А он заговорит со мной? А что мне ему сказать?
Все было нормально. Разве четырнадцатилетняя девочка не может ездить на поезде одна? Но все-таки я подала голос и попросила водителя отвезти меня не на вокзал, а в офис к отцу. Моему появлению там в разгар дня не удивился никто, кроме папы, и я спокойно читала в кресле, дожидаясь, когда мы с ним поедем домой.
Теперь я была самой настоящей школьницей с отстойной старшей и местом в общаге у черта на куличках, но бедной Габи все равно приходилось ездить в школу и обратно вместе со мной. Об этом договорились наши матери, и я искренне сочувствовала бедной Габи. Я бы с радостью садилась на автобус в Бостон и добиралась до аэропорта самостоятельно, но родители были бы в ужасе. А в то утро, когда нас отпустили по домам на День благодарения, я обнаружила в машине не только Габи, а еще и ее бойфренда. Он был богатым наследником, и лимузин прибыл его заботами.
«А, ты Лэйси», – сказал он.
Я поздоровалась. Темно-серые кожаные сиденья были восхитительно мягкими.
«Ты тоже из Лэйк-Фореста», – сказал он.
Его констатации очевидного нервировали меня, он как будто на грубость нарывался. Вот что я должна отвечать на такое?
Но этот мальчик, Стюарт, улыбался. «Еще одна из Лэйк-Фореста. Еще одна рыжая малышка из Лэйк-Фореста». Как мило. Теперь я поняла, что его так развеселило: мы действительно были до нелепости похожими друг на друга белыми девицами из одного и того же города.
«Ну да», – кивнула я.
«Лэйк-Форест – это такой Гринвич Среднего Запада», – сострил Стюарт. Сам он был как раз из этого коннектикутского города. «Вы, девочки, так очаровательно гордитесь своим чванливым городком среди прерий». Он подтолкнул Габи локтем, и через копну ее волос я разглядела, что она улыбнулась. «Я все время подкалываю Габи тем, что она из городка запасного состава. Вы обе из города-замены Гринвича. На игру вас не выпускают, но это ничего. Мы все равно вас любим».
Мне понравились эти его слова. Мне понравилось, что он наконец-то обозначил один из уголков огромного лабиринта иерархий, направлявшего ход жизни в школе Св. Павла. Нашим главным языком был статус, и этим языком нужно было немедленно овладеть, если, конечно, ты не выучил его до приезда сюда (а таких среди нас хватало). Это был примитивный интуитивный формат коммуникации, скрытый под поверхностью любого разговора. Мы знали грамматику привилегий (лакросс главнее легкой атлетики; низкой посадки вельветовые брюки главнее чиносов; старинные универсалы главнее люксовых автомобилей), и могли по молчанию догадаться о том, кто обладает реальной властью. Иерархия не подлежала обсуждению, впрочем, для этого у нас не было слов. На самом деле, слова не нужны там, где господствует иерархия. Ни одна ученица из аристократической бостонской семьи никогда не призналась бы, что знает, что ее фамилия широко известна или, скажем, вырезана на балке, под которой мы проходим каждый день. Именно поэтому они так веселились, когда я спросила, кто такая Марта.
Что бы ни говорили об отце Стюарта, он действительно работал и зарабатывал. Его обвисшие щеки и насупленный вид на фотографиях в газетах, которые читал мой отец, контрастировали с мальчишеским лицом и доброжелательным взглядом его сына. Именно известность отца отделяла Стюарта от учеников первого разряда, практически школьной знати. Те без малейших колебаний проходили по коридорам, населенным призраками их дедов, выигрывали конкурсы и получали приглашения от элитарных университетов. Они ни в чем не нуждались, ни о чем не беспокоились и ничем не восхищались. Их семьи проводили лето на островах, где купить дом было невозможно. Их отцы работали с тихими потоками наличности, если работали вообще. Если ты узнавала, что чью-то маму зовут Эбигейл Адамс (супруга второго президента США и мать шестого. Легендарная фигура американской истории. – Прим. пер.), оставалось только поверить этому. Случайных совпадений тут не бывало.
«Из Лэйк-Форест Тому Бьюкенену (персонаж романа Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби». – Прим. пер.) привозили его лошадей для поло», – сказала я Стюарту. Я прочитала «Гэтсби» как раз тогда, когда мы переехали из небольшой квартиры в просторный дом на главной улице. Через улицу был гольф-клуб, который в свое время создавался как поло-клуб. Мне нравилось думать, что лошади Дэйзи (жена Тома Бьюкенена. – Прим. пер.) стояли под деревьями, которые виднелись из моего окна – огромными дубами и ясенями, которые едва слышно покачивали своими кронами по вечерам.
«Ну да. Он покупал их в Лэйк-Форест и забирал на хрен с этого Среднего Запада», – ответил Стю.
Лимузин миновал ворота школы с чопорной белой эмблемой, проехал по Плезант-стрит в сторону Конкорда и реки, а оттуда выехал на трассу. Я приклеилась лицом к окну, чтобы не стеснять парочку. Удостаивала взглядом каждый лесок и каждый гранитный склон и прощалась с ними навсегда. Просто со школой Св. Павла ничего не получится. Я думала о тех лошадях для поло, вот они меня реально заботили. Я хотела разобраться в них (Как их выбирали? Кто заводил их в коневозки? Кто вез на Восток? Кто встречал по прибытию?), хотя должна была, как все, запасть на Дэйзи, шепоты, шампанское и звезды.
«Это Проклятие Кроуфордов, – сказала мама о моем спальном корпусе, назначенной мне старшей и неудачной соседке по комнате. – Вечно у нас все наперекосяк».
Насколько я помнила, до Св. Павла это было не так. А уж на сторонний взгляд, у нашей семьи все было просто прекрасно. Так что проблема была во мне. Это я была проблемой.
Мои родители всегда говорили, что я впечатлительная. «Ты слишком драматизируешь», – говорил папа, убедившись, что не может понять, каково мне. С малых лет я научилась предвидеть, когда скорее всего нарвусь на такой ответ. В восьмом классе я некоторое время подвергалась особо изощренному буллингу со стороны одноклассника. Он записывал мои ответы на уроках на портативный магнитофон, а потом воспроизводил самые нелепые моменты для кучки других ребят в коридоре. Они покатывались со смеху. Я приходила домой в слезах. Мой отец позвонил матери этого мальчика, которая велела сыну предъявить его магнитофон. Я благовоспитанно посапывала, пока папа слушал что-то в телефонной трубке. Я была абсолютно уверена в своем праведном негодовании, что едва ли не жалела этого магнитофонного монстра.
Но тут папа успокоился и посветлел лицом. «Так, понятно», – сказал он. Повернулся ко мне и совершенно искренне сказал: «Тебе не из-за чего огорчаться. Я прослушал эту пленку. Это записи твоих ответов на уроках. Очень толковые ответы. Я бы на самом деле гордился».
«Пап, мне из-за этого хочется убить себя», – сказала я, все еще плачущая двенадцатилетняя девочка. Ну как я могла объяснить?
Он нахмурился. «Не думаю, что это решение вопроса».
Потом, после восьмого класса, был период, когда на протяжении примерно полутора месяцев я становилась безутешной, как только солнце начинало клониться к закату. Тем летом я никак не могла определить причину своей тоски. Долгие дни среди дубов и вязов. Двое родителей, младший брат, несколько той-спаниелей (мы разводили их, так что в течение нескольких лет появлялись щенки). Уроки тенниса, вечера у бассейна, церковь по воскресеньям. И все же тем летом при виде заходящего солнца меня начинало мутить от ужаса. Я понимала, что это как-то связано со смертью, но не знала, как быть с этим пониманием. Меня пугала не идея конца – моего или чьего-то еще, – но мимолетные, панические и яркие видения небытия, которые, как мне казалось, преследовали меня. Небытие! При мысли о нем моя душа уходила в пятки. Вселенная стремилась к небытию. Неумолимое небытие. Дуги холодного белого света, уходящие вдаль к невидимым искривлениям пространства-времени (по папиному совету я читала Стивена Хокинга), и нигде, совершенно нигде, нет ни руки, ни сердца. Ужас был неразрешимым, поскольку никакой свет не мог выжить в этой тьме. Она ждала меня. Выбора у меня не было.
«Это же Huis Clos», – сказала мама, когда я постаралась описать ей мой кризис. – «За закрытыми дверями» (имеется в виду пьеса Жана-Поля Сартра. – Прим. пер.). Мама выросла в Европе, где работал ее отчим. Она говорит на пяти языках и понимает еще четыре. Рассказывая мне о Сартре, она ест фруктовый салат. Все, кроме банана, она сдабривает сахаром и запивает апельсиновым соком с капелькой ликера Grand Marnier. Она кладет в рот чернику. «Это о ловушке бренности. Наверное, у нас даже есть в библиотеке».
Глотая слезы, я пошла по коридору. Стены нашего небольшого рабочего кабинета были обставлены книжными шкафами. Окно выходило на восток, во двор, где сгущались сумерки. Последние лучи солнца туда не попадали. Только симпатичная лохматая живая изгородь устраивалась на ночлег под покровом мошкары. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, меня приводит в ужас не тьма, а уход света. Посмотрев немного на равнодушный двор, я принялась искать на полках Huis Clos, чтобы разобраться, наконец, с этими вещами про смерть.
Книжные шкафы были хорошо знакомой мне территорией. Папины секции: фотография, физика, шахматные дебюты. Мамины: беллетристика, классика, теология. Полстены под Encyclopaedia Britannica, старинная семейная Библия, а на нижней полке мамин портфолио времен ее работы фотомоделью в Лондоне, до брака с папой. Она была вылитая Кейт Мосс, только с зубами получше. Я укладывалась на ковер и листала ее фотографии. Это была единственная комната в доме, где мне разрешалось копаться. Каждое новое открытие было связано с какой-нибудь заморочкой, но со знаниями так происходит всегда. В пятом классе я прочитала «Корни» (исторический роман Алекса Хейли, повествующий о шести поколениях американской негритянской семьи. – Прим. пер.) и несколько недель чувствовала себя почти обманутой: почему наш усатый учитель естествознания использует слово «поток» чисто в научном смысле, если в этой замечательной книге им называли понос, мучивший рабов на плантациях. Все свои знания о сексе я почерпнула из романов серии «Клан пещерных медведей» про воспитанную неандертальцами осиротевшую белую девочку, которая в конце концов обретает белого мужчину, искавшего ее по всей доисторической Земле. В рамках отчасти связанного с этим исследования я выкрала инструкцию из коробки тампаксов в маминой ванной и, не обнаружив совпадений между иллюстрацией и собственным телом, утащила листок в кабинет, чтобы поискать разгадку в анатомическом разделе энциклопедии.
Сартра в родительской библиотеке не оказалось, но, покопавшись во французской секции, я обнаружила Les Fleurs du Mal («Цветы зла» (1857) – сборник стихотворений французского поэта-символиста Шарля Бодлера. – Прим. пер.) и подумала, что это мне подходит. Следующие несколько дней я изучала эти стихи с помощью франко-английского словаря. Бодлер не помог. «Я нахожу утешение в понимании того, что буду на небесах с Господом нашим», – сказал отец, но не помогло и это. Иногда помогало пересидеть убийство дня ночью в моей гардеробной за закрытой дверью и с включенным светом.