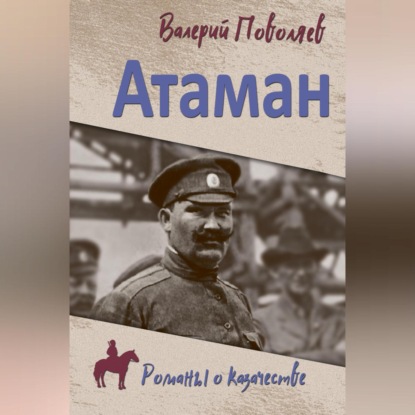Полная версия
Степная сага. Повести, рассказы, очерки
– А как же «За Родину, за Сталина!», что в кино показывают?
– Ну, кино – это кино! Нам в сорок первом и сорок втором годах не до форса было. Позже, должно быть, когда вспять поворотили и на Запад пошли, кто-то из политруков и смикитил, как можно отличиться перед высшим командованием, кинул клич. А фронтовая ветрянка разнесла скрозь. В нашем полку не кричали такое. Да и не до крику стало, когда наступление под Харьковом выдохлось, а немцы завязали нас в мешке и пошли дубасить почем зря! Кто ноги унес, потом до Волги пятился.
Нашей части не повезло – обложили нас со всех сторон, как медведя в берлоге. Туда-сюда подергались, да все напрасно. С винтовками против пулеметов и артиллерии да танков не попрешь. Патроны тоже на исходе.
Тогда Руев и приказал мне: «Жги, Яков, штабные документы. Всем полком нам из окружения не выйти. Зря людей погубим. Будем просачиваться мелкими группами».
Просочились! Не успел я и половины бумаг секретных спалить, как в землянку гитлеровцы ворвались.
Я перед буржуйкой на корточках сидел. Только к винтовке дернулся, мне – хлобысь сапогом под ребра… свет в глазах и потух. Прочухался, когда из землянки на грязь кинули. Вижу, со всех сторон нашего брата в кучу сгоняют. Знакомые младшие командиры Иван Черноус и Данила Горбачев помогли подняться. Говорят: «Держись, земляк, на ногах, иначе застрелят, как загнанную лошадь. А так хоть какие-то шансы на спасение остаются».
Пригнали нас на школьный двор в шахтерском поселке. Сутки держали без еды под проливным дождем. Не позволяли никому и нескольких шагов в сторону сделать, даже по нужде. Стреляли без предупреждения. Не давали ни раненым помочь, ни убитых убрать.
Вот тогда я впервые на собственной шкуре испытал, что такое фашизм. – Яков Васильевич на какое-то время смолк, заново переживая трагедию пленения.
Валентин, понимая волнение отца, не торопил своими расспросами, ждал, пока он сам найдет нужные слова. Фронтовые воспоминания Якова Васильевича волновали сына, но еще больше они бередили душу самого рассказчика, пробуждая в памяти страшные картины пережитого. Отец в момент своих воспоминаний не выглядел тем безнадежно угаснувшим стариком, которого сын увидел в день приезда. В нем вместе с воспоминаниями вспыхнули и не перегоревшие до конца угольки жизни. Значит, есть еще какие-то запасы жизненной энергии, есть надежда, что не последние деньки смотрит он на этот свет в окошке.
Найдя нужное определение понятию «фашизм», Яков Васильевич заговорил снова:
– Фашизм, сынок, это когда человека ставят в положение хуже скотины, не оставляя никаких прав, никакого выбора, кроме предательства или смерти. Не знаю, поймешь ли ты меня сегодня?
Валентин взял отцовскую руку в свою ладонь и накрыл второй ладонью в знак солидарности. Сказал при этом:
– Я тебя очень хорошо понимаю, отец! Сам недавно пережил в Верховном Совете кровавую акцию новоявленных фашистов.
– Да, да. Я совсем выбился из потока событий. Ты здесь, и Москва с ее кровавыми делами как-то померкла для меня.
Они снова замолчали. Валентину хотелось рассказать отцу, что он столкнулся с такой же бесчеловечной силой в наше время. Но, когда отца топтали и унижали гитлеровцы, он сознавал, что они – враги, заклятые, непримиримые, из другого мира. А кто уничтожал русских людей в центре Москвы, так же безжалостно, как фашисты, но еще изощренней, циничней, сладострастней? Кто без всяких ультиматумов и объявлений методично и хладнокровно, укрывшись за броней танков и бронетранспортеров, расстреливал безоружных стариков, всей своей жизнью обеспечивавших создание этой надежной брони на колесах? Кто не щадил матерей, юношей и девушек, пришедших на баррикады и безоглядно веривших в свою армию и милицию, что они никогда не станут воевать с народом? Кто огненными трассирующими чертами перечеркнул наивные надежды молодежи на перестроечную оттепель? У кого из наследников тысячелетней христианской России могла подняться рука на православного священника – отца Виктора, вставшего с крестом в руке на пути штурмовиков? И не просто выстрелить в русского священника, но и давить его бездыханное тело гусеницами, растирать по асфальту, превращая в грязную массу, в прах, пыль, в ничто. Тем самым давая понять всем законопослушным гражданам страны, какое право отныне утверждается демократическими оборотнями…
Чувства и мысли Валентина были сродни отцовским. Но он отдавал себе отчет, что не может изливать их на больного человека, умножая и усиливая его страдания.
Яков Васильевич почувствовал волнение сына и принял его за сопереживание своему рассказу. Он благодарно откликнулся на жест Валентина и ответным усилием пожал его руку и продолжил воспоминания:
– Ночью дождь стал еще сильней. Охранники попрятались в укрытия. Мне удалось найти лазейку в школьном заборе. В том месте штакетник держался только на верхних гвоздях. Наверно, местные недоросли шныряли через этот лаз на перекур во время перемен.
Толкнул я Ивана с Данилой и полез в заборную щель. Они – за мной. Метров двести – триста ползли на брюхе по уличной грязюке. Потом перебегать стали друг за другом, чтобы не потеряться из виду. Добежали до какой-то заброшенной шахты. Нашли сухой угол в подсобке. Притулились, передыхая и думая, куда дальше идти.
Данила Горбачев предложил пробираться на северо-восток, к Воронежу. Он слыхал от других пленных, что там фронт еще держится, а немцы рвутся на Кавказ и к Сталинграду.
С рассветом огляделись вокруг. Выбрали направление движения. Но днем идти опасно. Решили продвигаться только ночью. Порыскали трошки в окрестностях шахты. Нашли какие-то ветхие спецовки. Кой-чего из съестного на огородах собрали. Погрызли. Покемарили в своем закутке. А ночью отправились в путь. Верст тридцать отмахали. В сырой обувке ноги до крови растерли. Одежа вся в грязи перемазанная, разорванная. Сами на чертей похожи. А душа не унывает, толкает нас все дальше и дальше к желанной свободе.
Дневку устроили в соломенном скирду. Колоски полущили. Зерна пожевали. Подремали и дальше двинулись. Так девять ночей пробирались к своим.
Питались, чем Бог пошлет – сырыми овощами, зелеными фруктами, ягодами, зернами пшеницы и ячменя из найденных колосков. Пили из речек и ручьев, попадавшихся на пути. А когда их не было, пили застойную воду из луж и кюветов. Знали, что этого делать нельзя. Но стерпеть жажду превыше сил человеческих. Опускали пилотки в воду и пили через материю – хоть какой-то фильтр получался.
На десятые сутки Данила подцепил из лужи кишечную инфекцию, понесло его с кровью… Стал он то и дело спускаться под скирд, где мы дневали. Неподалеку мужик местный на поле копошился. Подошел к Даниле. Посочувствовал его беде. Обещал марганцовки принести для лечения, хлеба и воды. Но выдал, подлюка.
Вскоре затарахтели вокруг скирда немецкие мотоциклетки и голосистый немчура залаял на ломаном русском: «Русише зольдат, сдавайс. Будешь живым».
Что тут поделаешь? Видел предатель Данилу, ему и спускаться к немцам. А нам, может, повезет отсидеться?
Спрыгнул Горбачев на землю.
«Кто ест здес еще?» – спрашивают его. «Никого нет», – отвечает сержант. «Тогда поджигай солема. Вот зажигалка».
Пошел Данила к дальнему концу скирда, надеясь, что не станут немцы ждать, пока весь скирд огнем займется. Да солома есть солома, хоть и подмочили ее дожди, жарким костром взметнулась.
Мотоциклисты хохочут: «Гут, русише зольдат. Кароший печка. Грейся».
Тянет на нас с Иваном едким дымом и огнем. Полевые мыши с писком прыскают во все стороны. И не хочется уподобляться им. Я уже и решение принял – лучше сгореть, чем быть расстрелянным или забитым прикладами. А Иван Черноус шепчет: «Яша, можа, еще сбечь смогем? Жизни не жалко. Детей жалко сиротить. Трое их у меня. Мал мала меньше…»
Тут и я своих пятерых представил… Согласился с товарищем: «Была не была!»
Выскочили, как угли из костра. Лица красные. От рваного обмундирования пар идет.
Унтер-офицер немецкий и его команда за животы схватились от смеха: «Печёний русише картёшка… шарений швайн… Иван-турак… Кохо хотель опманувать, рап?» – рыготал до упаду белобрысый унтер, круглолицый и конопатый, как петрушка из наших сказочных героев.
Связали нам руки. Привязали общей веревкой к мотоциклетной коляске и потащили цугом в ближнее село.
Там сотни три пленных стояли шеренгой вдоль дороги.
Унтер затормозил перед серединой строя. Слез с мотоцикла и указал на нас штык-ножом: «Это есть бегальщики от германский командований. Они будут наказан за это. Все должьен знать, кто сотрудничьяет с германский командований, тот будьет жит карашо. Кто бегает, будьет наказан. Ошьень сильно наказан…»
Он разрезал веревки на наших руках и потребовал снять обувь.
Я догадался, что собираются делать. Довелось от кого-то слышать, что беглецам из плена фашисты перебивают ноги или натравливают собак.
Пока разувались, сказал об этом Ивану и Даниле. Посоветовал в носки и в портянки травы напихать.
Они только головами покачали да обреченно прошептали: «Хана нам, Яша. Напрасно все…»
Тут унтера кто-то из своих позвал, и он ушел в хату к начальству. Пока он отсутствовал, я успел в носки и портянки травы напихать.
Стоим, ждем расправы. Строй военнопленных оглядываем: может, кто из земляков сыщется? Расскажет потом родным, как загинули три донца – Яков, Иван и Данила… Только никого из знакомых не увидели. Но чувствуем, что сопереживает нам братва, многие головы опускают, чтобы не смотреть, как будут издеваться над нами.
Вышел унтер. С довольной ухмылкой к нам направился. Видно, похвалили его за поимку беглецов.
Данилу в этот момент очередной приступ расстройства желудка скрутил. Нет мочи стоять неподвижно. «Разрешите, – говорит, – в сортир по нужде пойти. Дизентерия у меня…»
«Хочешь опять бегать, русише швайн?!» – взвился унтер.
«По нужде мне… хоть под плетень разрешите отойти», – взмолился Данила.
Только он попытался сделать движение в сторону забора, как хряснет ему унтер каблуком с металлической пластиной по пальцам ноги.
Сержант свечкой взвился от нестерпимой боли в сломанных пальцах и прянул на унтера, хватая его за горло. Но не успел пальцев сомкнуть, как пырнули его тесаком под лопатку. Захаркал земляк кровавой пеной и повалился в грязь.
И началось!.. Пинали, гады, по нашим ногам как вздумается и с разных сторон.
Хрустнула под коленкой кость у Ивана. Покачнулся он на сломанной ноге и рухнул возле Данилы. Следом и я упал.
Боль адская. На носках и нижней части галифе кровавые пятна проступили. Стон и хрип из горла вырываются. Но чувствую, что кости целы.
Унтер орет: «Ауф штейн!»
Черноус оперся на руки, кое-как встал на здоровой ноге. Ему и ее сломали. Покатился с воем по земле, пока не пристрелили.
«Ауф штейн!» – визжит надо мной взбесившийся от крови и всевластия унтер.
Ползаю на карачках, не могу встать на ноги. «Вставай, браток! – кричат из строя. – Не то пристрелят».
Пытаюсь подняться, но унтер тут же валит меня очередным ударом. И оттого, что он не дает мне до конца подняться, удары приходятся не по ногам, а по туловищу, более тупые и погашенные.
Наконец фашист выплеснул весь запал злобы и выдохся. Отступил на несколько шагов.
Шатаясь и размазывая по лицу кровь рукавом гимнастерки, я поднялся на ноги.
«Это есть живучий скотина. Он будет корошо работат на великий рейх!» – засмеялся унтер.
Так закончился для меня фронтовой период жизни и начался еще более адский – лагерный.
– Да, отец, нахлебался ты страданий. На десять жизней хватит, – вздохнул Валентин.
– Мужчины, завтрак готов, – раздался напевный голос Оксаны Семёновны. – Яша, тебе принести или ты с нами сядешь?
– Давай попробую с вами, – не сразу отозвался Яков Васильевич. – Токо оденусь и лицо сполосну. Подсоби, сынок.
Глава 7На большую, иссеченную топорными зарубками вверху и «бородатую» остатками корней внизу яблоневую плаху Валентин поставил первый чурбак. Выбрал самый большой топор и, мысленно испросив Божьего благословения, с потягом рубанул в середину крученого вишневого чурбака. Блестящее рубило на треть вошло в деревянную плоть, но не раскололо ее.
Валентин вновь взметнул топор вместе с чурбаком и, перевернув его, с силой ударил обухом о колоду. Чурбак покосился на лезвии топора, но не раскололся.
После второго удара он и вовсе слетел с топора.
Валентин повертел его в руках, рассматривая текстуру древесины и выбирая место возможного раскола. Снова рубанул во всю мощь своих сил. Результат был ненамного успешнее первой попытки.
– Ну, погоди, вражина! – вслух пригрозил он и стал неистово кромсать ожелезившийся чурбак со всех сторон.
Мало-помалу от неподатливого и крученого обрубка старой вишни, возможно, росшей в пору детства и юности дровосека, осталось несколько корявых и суковатых поленьев.
Давно отлученный от крестьянских забот, но выросший в станице и привычный к физическому труду, Валентин нередко скучал по деревенской работе. Порой нестерпимо хотелось поворочать лопатой пласты земли на огороде, до усталости и дрожи в руках помахать топором, покосить летом буйные травы до десяти потов. Чтобы потом с наслаждением омывать разгоряченное тело колодезной водой, черпая ее эмалированным ковшом из деревянной кадки и плеская на шею и спину, ухая и фыркая от удовольствия. Но военная служба не давала ему такой возможности. Периодические переезды из гарнизона в гарнизон к месту нового назначения не располагали к оседлости. Дачей или садовым участком он так и не смог обзавестись и вспоминал деревенские навыки только в родительском доме или на дачных участках друзей в Сибири и Подмосковье.
Однако рубка березовых дров в лесной местности России не идет ни в какое сравнение с подобным занятием в степном краю. Если в первом случае это молодеческая забава, удовольствие для мужчины, то во втором – тяжелая сеча, испытание характера и воли. Ибо чурбаки из тополя, ивы и карагача – деревьев южной полосы – намного норовистее березовых и еловых. А дубовые, яблоневые, вишневые, сливовые и абрикосовые – вообще с трудом поддаются рубке, особенно сучковатые и идущие от корней. Именно такие и копились годами в сарае стариков Серединых.
Валентин промокнул пот на лбу и щеках матерчатой перчаткой, расстегнул старенький ватник. Узловатый чурбак отнял у него немало сил. Если и дальше работать с такой затратой энергии, то надеяться на продуктивный результат не придется. Нужно менять тактику.
Порывшись в отцовском инструментальном ящике, Валентин извлек оттуда несколько зубил и кувалду.
От решительного крушения чурбаков он перешел к неторопливому их расклиниванию. Вставлял в топорную рассечку зубило, а то и два, и методично загонял их внутрь ударами кувалды. Древесина скрипела, кочевряжилась, трещала по расколам и постепенно расползалась в стороны, образуя вокруг колоды разрастающийся курган поленьев.
– Сим победиши сучью породу! – приговаривал Валентин, ударяя кувалдой в расплющенную шляпку зубила. – Главное – не распускать сопли и не отступать перед трудностями!
– Валик, ты што-то сказал? – подошла к сыну Оксана Семёновна.
– Да это я сам с собой разговариваю, мама, подзадориваю себя, – рассмеялся Валентин. – Норовистые комли попались – сплошные сучья да корневища. С наскока не одолеешь.
– Бросил бы уже возиться с ними. Вон скоко накурочил! Передохни, охолонь, с отцом погутарь. Оживел он с тобой. Навспоминал прорву. Я за всю жизнь от него такого не слыхала… Хватит воевать с чурбаками.
– Нет, ма, еще трошки поработаю. Только плечо раззуделось. Я на них найду управу. И… эх!
– Гляди не надсадись! А то своим упрямством заработаешь грыжу или радикулит.
– Не бойся, одолеем супостата, каким бы крученным и верченным он ни был! Не зря же народная пословица гласит: «На каждого серого волка сыщется Владимир Красное Солнышко»… И… эх!
«Норовистый, как батя! – отметила про себя Оксана Семёновна, с тихой радостью наблюдая, как сын умело расщепляет очередной неподатливый чурбак. – Ни за что от своего не отступится, покуда верх не одержит!»
Она еще несколько раз подходила к Валентину, закликая его в дом. Но слышала одно и то же: «Погоди трошки, скоро управлюсь».
Когда вышла звать сына на обед, то увидела, что Валентин лежит, разметав руки и ноги, на дровяном кургане и блаженно улыбается.
– Говорила же, что ухандокаешься с непривычки! – запричитала мать. – Надо же, такую махину дров переколол! Теперь ни рукой ни ногой не пошевелишь, поди? Ну зачем так-то загонять себя? Пойдем в хату, я тебе спину нашатырем разотру. Времени уж сколь! Вареники стынут. И отец волнуется, говорит: «Запалится Валентин. Пущай бросает дровяную канитель».
– Все, мама, теперь иду. Аппетит нагулял волчий. Только бы вилку удержать… трясутся руки с устатка, как у алкоголика.
– Трудоголики что алкаши, каждый до своего охоч! Вы с батей привыкли работать, покуда не упадете.
– Так лучше от работы упасть, чем от водки.
– Лучше-то лучше, но про здоровье тоже надо думать.
– Как будто ты у нас всю жизнь отдыхаешь? С утра до вечера по хозяйству хлопочешь, а нас – мужиков – жалеешь.
– Так бабьи заботы – ходить по кругу: топка печи – стряпня – накрыть на стол – помыть посуду – уборка – постирушки – штопка… А мужикам силу прикладывать надо, горы воротить. Так и пуп надорвать недолго. Вот отец грыжу заработал. И ты хочешь?
– Ладно, мамуль. Больше своих возможностей не наворочаем. А надорваться и за столом можно. Сколько таких случаев? Вон баснописец Крылов блинов объелся и умер. Так что не закорми до смерти.
– Што ты говоришь! Неужто от блинов? – удивилась Оксана Семёновна, подавая Валентину суповую тарелку, в которой горкой лежали вареники с картофельной начинкой, политые сверху луковой зажаркой.
– Много теста вредно для организма. Тяжело переваривает. В сон сразу клонит.
– Ну да! То-то отца сразу сморило. Поел в охотку вареников и заснул. А меня што-то не берет сон.
– А ты обедала?
– Так, пока готовила, похватала трошки. Надо ж было попробовать, прежде чем вас потчевать.
– Садись со мной, нормально поешь. Мне одному не одолеть такую гору. Не то напихаюсь твоей вкуснятиной и помру, как Крылов.
– Типун тебе на язык! Чем тут объедаться? Покушаешь досыта, да все. Не пужай меня.
Валентин, утомленный работой, неспешно ел запашистые вареники, подшучивая над матерью и жмурясь от удовольствия.
– Ну, кто еще так вкусно накормит, как родная матушка? Нет другой такой умелицы на свете.
– Будет тебе придумывать. Таля твоя рукастая и старательная, несмотря что городская. И борщ у нее получается отменный, а плов – так лучше маво.
– Я же не про плов, а про вареники. Не московская это еда. Наша, казачья. Потому не в чести у московских хозяек. Моя – не исключение.
– Не хули ее за такие мелочи. Без вареников проживешь. А вот без ее жали и заботы – не жизнь, а маета. Талюшку тебе Бог послал. Уж такая болезная, такая разумная. Кажное слово ловит, а то и сказать не успеешь, а она уже делает, будто мысли читает. Скрозь успевает, обо всех родных думает. Славная женщина. Таких стало не много ноне. Береги свое счастье, не зарься на чужое.
– Хорошая – это точно. Так я же под тебя искал. Чтоб похожа была.
– Не конфузь ты меня. Нашел цацу! Всю жизнь в земле да в навозе копаюсь. Безграмотная. Лица сроду не малевала.
– Я правду говорю. Каждый ребенок, если рос в благополучной семье, при нормальных родителях, всех остальных людей по ним мерит. Мне с меркой повезло. Родители и совестливые, и радушные, и с чувством юмора. Да и статью Бог не обидел. У тебя вон коса до сих пор пышная, как в молодости. Да и глаза не выцвели. Зачем их подмалевывать? Так что под твою мерку не все подходят. Но уж если кто подошел, то человек что надо!
– Ну и дай Бог, коли так!
– Так, так, мать, Валентин правду гутарит, – раздался довольно бодрый голос Якова Васильевича. Видимо, он давно уже проснулся и слышал застольный разговор сына с матерью. – По своему опыту скажу, што все верно сказано. Родительская мерка для большинства детей – заглавная. Спасибо, сынок, уважил нас своим отношением.
– Это вам спасибо говорить нужно за то, что мне есть с кого пример брать, по кому порядочных людей от проходимцев отличать. Хочется, чтобы и мои дети так же думали, не стыдились за родителей, а гордились нами.
– Тут мера обоюдная, – откликнулся после некоторого раздумья Яков Васильевич, скрипя панцирной сеткой, видимо, садясь на постели. – Смысл родительской жизни в том и заключается, штобы вырастить достойных чад и не стыдиться за них перед обществом и совестью, и штобы дети за родителей не конфузились.
– Пап, тебе помочь?
– Сиди вечеряй. Целый день провозился с корчажками. На кой они тебе сдались? Я уже помалу сам управляюсь. Зараз вельветки надену и пришкандыбаю к вам.
Через несколько минут старик, шаркая валенками, вышел из-за занавески. Присел на лавку у края стола.
– Яша, может, перекусишь трошечки? – спросила жена.
– Сыт пока. Узвару полстакана влей. Вроде как полегшало мне. Голова посветлела. Руки-ноги слушаца стали.
– Это сынок тебя растормошил разговорами да проходками. Стал шевелиться – и кровь потекла по жилам, а то лежал увалом, как же ей течь?
– Оно, конечно, так. – Яков Васильевич погладил плечо сына своей высохшей пергаментной рукой. – Валек трошки вдохнул жизни в меня. Покойники перестали звать во сне. Память вертается. Вовремя навестил, сынок. Еще бы неделю-другую задержался и мог бы не застать в живых…
– Ой, вовремя! – подхватила Оксана Семёновна. – Будто Господь надоумил.
Радость и умиление светились в радужных морщинках вокруг ее карих глаз. И было от чего просиять исстрадавшейся душе – сын из ельцинского ада вышел невредимым, да еще хворого отца на ноги поднял. Это ли не радость?!
– Гляжу на тебя, Валечек, и всех-то деток своих вижу. Не такими, как вы нынче стали, а еще теми варнаками, что зарубки на памяти оставили. Отец-то не все видел, а мне пришлося хлебнуть с вами лиха. Часто ваши проказы вертаются вспять, будто вчера было.
Юрик смирным рос, а все-таки умудрился в два года в чужой двор зайти, да прямиком – к собаке. Она лаем заходится. А он, дурачок, «Орла, Орла» кличет, как нашу. Хорошо – хозяйка дома была, выбегла из хаты и выхватила Юрку из-под самой собачьей морды. Не ровен час, закусала бы нашего первенца.
– Да, учудил, герой! Но я этого действительно не видел сам, токо от матери слыхал, – произнес Яков Васильевич. – Зато Никита дюже запомнился своими проказами. Вот уж оторва был, каких мало!
– Беда как шкодил, – согласилась Семёновна. – Люду чуть было до смерти не зашиб. Сообразил, в два-то годика, што ему после рождения младшей сестренки меньше конфет доставаться будет. И столкнул с печки на ее кроватку горшок с фасолью. Дитя черепками и фасолью засыпало. Ух, я и задала ему трепки…
– А как ему руки чуть не оторвало? – напомнил отец.
– Жуть кромешная эти самопалы! И вспоминать страшно.
– Я этим гремучим поветрием всех пацанов тоже увлекался, – признался Валентин. – На машинном дворе из негожей техники вытаскивали медные трубки и мастерили из них пистолеты. Вместо пороха крошили в стволы серу со спичек и поджигали через боковое отверстие. Бабахало громко. Был грех и у меня, не только у Никиты.
– Ты без приключений эту ветрянку пережил, – продолжила вспоминать Оксана Семёновна. – А Никита глаз мог лишиться, когда энтот пугач у него в руке разорвало, пальцы и лицо в кровь посекло, брови опалило, волосы… Как глаза не выбило? Кричал дюже с перепугу. Мы с отцом не меньше ево испужались, когда весь в кровище домой прибежал. Слава Богу, обошлось без больших ранений!
А Славик уже в войну поранился и без пугача. Голодно было всем, а ребятенкам малым особенно. Повадился Славка по деревьям лазить за птичьими яйцами, да и сорвался однажды. Копчик повредил. Ходить не мог, так болело. Фельдшерица пыталась мазями разными обезболить. Все как мертвому припарка. Люди знающие подсказали, что в Старом хуторе есть знахарка Федосьевна, грыжу заговаривает, зубную боль, позвонки вправляет. Выпросила я лошадь с подводой в колхозе и свезла Славика к знахарке.
Федосьевна попарила ево травяным настоем, заговоры почитала, дала попить чего-то. И полегшало малому, оклемался, опять с дружками своими Витей и Колей промышлять по гнездам продолжил. Голод заставил.
– Да, натерпелись в войну и взрослые, и дети, – вздохнул Яков Васильевич.
– Из нашей семьи больше всего тебе и Нюре досталось, – уточнила Семёновна. – Я в колхозе пласталась за палочки трудодней и болела часто, а Нюра за хозяйку была. Ходила к дедушке на Маныч за продуктами, за десятки километров, пешком, по снегу, по воде. Блудила, околевала… Чево токо с ней не приключалось?! А не дал Господь загинуть кормилице нашей, всех в семье сберег.
– Когда через такие испытания живым выйдешь, невольно Бога помянешь с благодарностью, – поддержал супругу Яков Васильевич. – Жуткое время было. А память о нем не выветривается. Странно она устроена – многое из того, что казалось важным и даже главным в жизни, размывается в бледное пятно, а какие-то случайные мелочи помнятся неизбывно.