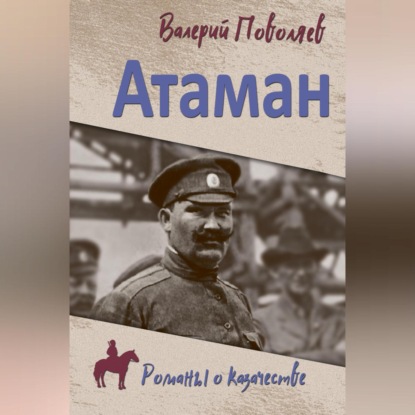Полная версия
Степная сага. Повести, рассказы, очерки
Валентин, довольный незлобливыми шутками родителей, с аппетитом хлебал наваристый и запашистый суп, отмечая про себя, что добрые предчувствия не обманули его. Отец потихоньку изо дня в день все больше приходит в себя, начал самостоятельно двигаться, есть, рассказывать о войне. И мать тоже взбодрилась, повеселела. Да и сам их домишко наполнился каким-то иным духом, иной энергией. Казалось бы, все осталось на прежних местах – батька еще очень слаб, пузырьки с лекарствами все так же стоят на столе возле его кровати. Но ежедневные жалобы на болезнь, ожидания худшего исхода сменились долгими разговорами и даже шутками. Уныние и безысходность уступили место надежде на улучшение самочувствия и продолжение жизни.
Общение с родителями не тяготило, а, наоборот, все больше увлекало сына, особенно рассказы о войне и плене. Что-то из отцовской биографии он знал и раньше, но многие подробности услышал впервые. Помимо сыновнего любопытства в нем проснулся и журналистский интерес к эпизодам солдатских кругов ада, через которые прошел отец. Валентин мысленно корил себя, что за всю свою жизнь ни разу не удосужился толком поговорить с отцом по душам, про свои же корни разузнать. Слава Богу, что еще можно наверстать упущенное! А если бы не успел? Что бы детям своим мог поведать? Что их дедушка – бывший бухгалтер, фронтовик и честный трудяга? Негусто для благодарной памяти и любви. Еще как минимум душевное родство нужно. А оно только сопереживанием создается и укрепляется, знанием волнующих подробностей жизни.
Час или полтора отдохнув после прогулки и подкрепившись обедом, Яков Васильевич, как и обещал сыну, поведал новые подробности из своей лагерной эпопеи:
– В нашем лагере почти все заключенные, в том числе и немцы, добывали уголь в шахтах. Работали в буквальном смысле до упада, часов двенадцать в день. За мизерную пайку серого непропеченного хлеба с какими-то горькими добавками и миску овощной баланды, изредка разбавленной крупами. Голодали дюже. Урабатывались до смерти. Многие померли. Кто – прямо в забое, кто – в лагерном бараке.
Я под всяческим предлогом старался не попасть в шахту. Легкие некудышние. Да и, честно сказать, не было никакого желания фашистам пособлять, пусть не по своей воле, а под конвоем, но все равно работать на врага. Поэтому как мог отлынивал. То уборщиком в бараке останусь, то больным прикинусь.
Охранники вскоре заподозрили меня в симуляции, стали на проработку вытаскивать. Сначала кругов по сто вокруг барака гоняли. Заставляли приседать или отжиматься от земли, пока не упаду без сил. Тогда футбол начинался… до крови.
Но и тут я хитрей их оказался. Научился юшку носом пускать. Токо они меня на сапоги возьмут, я – шмыг, шмыг рукой под носом… вся физиономия в крови. Они – гады конченые, а кровь на них все равно отрезвляюще действовала. Отступались.
Изобьют на рупь, а я охаю и отлеживаюсь несколько дней на червонец, – невесело пошутил Яков Васильевич.
Валентин зябко поежился, представив кровавую лагерную забаву охранников. Ему приходилось много раз читать и видеть в кино, как немцы и полицаи издевались над военнопленными. Кровь в жилах стыла. Но ведь там были абстрактные жертвы. А здесь – отец. Тихий, незлобивый человек, всю жизнь носивший в себе боль от пережитого и никогда не изливавший ее на близких и родных людей. Вечно трудившийся, как муравей, на свое немалочисленное семейство. Вечно переживавший за то, чтобы все были сыты, одеты, обуты, не болели, учились прилежно. И никогда ничего не требовавший взамен. Даже когда дети выросли, получили образование, заняли высокие должности и стали время от времени помогать родителям деньгами, отец каждый раз смущался и говорил: «Мы раздолжимся. Бычка в зиму сдадим заготовителям и раздолжимся. Вам-то, молодым, деньги нужнее». Душе до слез больно.
– Охранниками немцы были или свои же, из пленных? – спросил взволнованно Валентин.
– Смешанно. Но лютовали больше свои. По сию пору не могу понять, почему. Особенно один земляк по кличке Ржавый бесчинствовал. Здоровенный детина, нескладный, как обезьяна, весь в рыжей шерсти. Взялся за меня не на шутку.
– Может быть, из кулаков, обиженный?
– Кажись, голодранец. Но ненавистный, не приведи господи! Доведись ему родного брата пытать – умучил бы до смерти. Есть такая порода – все у них не как у людей, вкривь и вкось, а винят весь мир в этом, токо не себя.
– Кажется, я понял, что за фрукт! Такие, по научному определению, страдают комплексом неполноценности, или по-другому – комплексом Каина. Душа черной завистью переполнена, не способна сопереживать другим людям, любить, а только – ненавидеть, унижать, издеваться и за счет этого возвышаться над жертвами.
– Ну, как там по-научному называется, не знаю, но то, что душа гнилая – факт. Вначале ему кличка моя не понравилась. Хлопцы прозвали меня за большие усы, закрученные на донской манер, Будённым. Чем уж ему Семён Михайлович не угодил, того не ведаю. Но, как только услышал слово «Будённый», взъярился как ошпаренный. Чертом подскочил ко мне. Чуть ли не в глаз тычет корявым, как сучок, пальцем и орет: «Это ты Будённый?»
Мне даже смешно стало от такой тупости. Ответил ему: «Неужели солдата от маршала отличить не можешь? Я – такой же Будённый, как ты Ворошилов».
Он от ненависти аж зеленым сделался. Глаза, как у рака, выпучились, рот перекривило. Командует: «Раздевайся!» – «Это еще зачем?» – «Раздевайся, гнида, а то зашибу».
Пришлось раздеться до исподнего.
Подхватил он мои отрепья и кинул в печь, прошипев при этом: «К утру сам от холода сдохнешь».
Хлопцы мне вскоре другую одежу принесли. Сняли с кого-то из умерших. Не пропадать же добру, когда еще может живым послужить?
Но Ржавый не успокоился на первой выходке. При любом подвернувшемся случае мстил, хоть и понимал, зараза, што никакой я не Будённый и даже не активист. Просто выбрал козла отпущения и вымещал свою злобу. Может, выслуживался таким образом перед немцами, а может, просто свое гнилое нутро тешил?
Однажды лежу на нарах после очередного «угощения» охранников, мозгую, как дальше действовать, что еще заковыристей придумать, чтобы головы им задурить. Несколько недель так вот на одном кровопускании прокантовался. Похоже, сей трюк им приелся, уже не дюже впечатляет, бьют все сильнее и дольше. Так и все внутренности отобьют. Нужно еще на што-то исхитритса.
Тут заходит в барак мой «благодетель» и не орет, как обычно, а говорит масленым голосом (знать, придумал какую-то новую пытку): «Вставай, Будённый. Неча симулировать».
Я сквозь охи и вздохи отвечаю: «После твоих сапог посимулируешь! Все потроха отбили. Не знаю, дотяну ли до утра».
«Счас узнаешь, – сипит он. Сдернул меня за шиворот, как щенка, с нар и поволок к выходу. – Узнаешь, сучье отродье, как от работы отлынивать, дурить нас своими фокусами! Я тебя отучу дурака валять!»
Выволок на улицу. У входа подельники его скучковались. Видать, был у них какой-то сговор насчет моей персоны. Стоят посмеиваются, покуривают, ожидают очередного «спектакля».
Несколько немцев тоже подошли, любопытствуют, что за развлечение Ржавый на этот раз придумал.
Мне дюже не по себе. Вижу, што бить вроде не собираюца, но и миловать – тоже.
Достал Ржавый три веревки из кармана. Две – потолще. А одну – тонкую, но крепкую, как дратва сапожная. Толстыми веревками связал мне руки и ноги. Подтянул, как бревно, к массивной входной двери и шипит по-змеиному: «Будешь отныне псом барачным. Бессменно. А штоб не сбежал, я тебе надежный поводок нашел».
И привязывает, гад, дратву к моим усам, а потом – к двери.
Дружки его от смеха затряслись, аж захлебываются, так им потешно, что изверг придумал небывалую пытку для человека, который не пожелал стать, подобно им, фашистским прихвостнем.
Немцы тоже посмеиваются, пальцами в нашу сторону тычут, дескать, чего только эти русские дикари не отчебучат! Варвары, одним словом!
А Ржавый ни разу не осклабился. Всерьез делом занят. Только пыхтит, сморкается на меня и цедит слова сквозь зубы: «Пока не загавкаешь по-собачьи, не отвяжу, хуч до ночи».
Голос у Якова Васильевича дрогнул, и глаза подернулись маслянистой пленкой подступивших слез. На несколько минут он замолчал, промокая глаза и нос уголком махрового полотенца, попавшего под руку.
Валентин, глядя на отца, тоже пытался сдержать подступивший к горлу ком. В голове промелькнула мысль: «Хорошо, что мать к соседке посумерничать ушла. Не для женского сердца такие рассказы».
– Никогда в жизни не приходилось быть таким униженным, как тогда, – продолжил отец рассказ осевшим голосом. – Лучше бы убили, гады, чем в скотское положение человека ставить.
Деваться некуда. Стою на привязи, гляжу поверх крыши барака на небо. А оно такое же, как нынче, ясное, голубое. Кое-где облачка белокрылыми чайками летят на восток. Туда, где женка моя с детками в оккупации мается. А может, отмаялись, померли с голоду без кормильца семьи?
От таких мыслей вовсе жить не хочется в этом вонючем бараке, где вши и дизентерия, чахотка и силикоз, поголовная дистрофия, где человеческая жизнь полушки не стоит. Бывало, один гад на спор с другим гадом за миску баланды любого человека убить мог. Не днем, конечно. Принародно на такое злодейство не решались, зная, што не все за кусок хлеба душу продают. А ночью, когда хлопцы, смертельно устав на каторге в шахте, проваливались в сон, случалось, кто-то и не просыпался, посинев от удавок упырей.
Где взять силы, штобы выжить в таком аду? Токо – вспоминая все самое хорошее, самое дорогое. А что у человека есть дорогого, штоб всегда с ним было? Токо – близкие душе люди – семья, родные, друзья. Вот и все.
Гляжу на небо, на летящие по нему облака, дом родной вспоминаю, родителей, сестру, приятелей, как жену приглядел среди других заневестившихся хуторских девчат, детей наших, их потешные приключения.
И вроде как нет войны на свете, нет колючей проволоки вокруг лагеря, нет зловонного барака с парашей, нет Ржавого – садиста, которого, по всему видать, точит собственная никчемность, а он ее измывательствами над другими людьми приглушает.
Все происходящее кажется только сном, кошмарным, болезненным. Пройдет он, и сгинут все мучения, страдания и унижения…
Но налетел порыв ветра, ударил в сырые доски, резко качнул дверь. И в глазах почернело от боли. А сделать ничего не могу, токо лбом в дверь упереться, штобы ее не так сильно шатало. Ведь, если упаду, усы вместе с верхней губой на двери оставлю. И на кой ляд я их такие пышные отращивал? Куражу ради среди станичников. Вот и покуражатся теперь прихвостни фашистские в свое удовольствие!
Ишь как им смешно, што я от боли корчусь при каждом порыве ветра, слезы из глаз горошинами выкатываются!
Дунет резко ветер, и оттопыривается губа вслед за усами, обнажая стиснутые зубы. И такая боль в душе от беспомощности, что не только залаял бы, но и завыл по-собачьи.
«Гавкай, Будённый! – сипит над ухом Ржавый. – Ты меня знаешь, я не шуткую. Будешь до вечера корчиться».
«Знаю, гад, што не шуткуешь, – думаю про себя, – но ежели я тебе хоть раз поддамся, ты меня потешной собачонкой навсегда сделаешь. А для меня лучше смерть, чем срамота. Да, терпел побои. Да, греб дерьмо барачное. Но ни вам, ни хозяевам вашим не продавался. Не дождетесь моего позора!»
Когда надоела Ржавому потеха и развязал он веревки, тут я и рухнул. Взаправду упал, лишился сознания. Видать, все силы, и духовные, и физические, потратил, штоб не особачиться.
В бараке меня сосед по нарам – донецкий шахтер Семён Дубина спрашивает: «Яша, што они с тобой делали?»
А у меня верхняя губа онемела, язык не ворочается. Хочу сказать и не могу. Кое-как Семёну объяснил, што мне срочно надо сбрить усы, иначе доконают Ржавый с подельниками.
Семён позвал вечером несколько земляков. Сбрили они мои буденновские усы. Помороковали, как дальше быть. Сошлись на том, што больше нельзя мне в бараке ошиваться, охранники не отстанут, пока не прикончат. Лучше уж со своими хлопцами в шахту идти.
Яков Васильевич с грустной улыбкой подытожил рассказ:
– Так завершился период моей барачной войны с фашистами и начался шахтерский. Но об этом в другой раз поговорим. Не вышел бы весь пар в свисток!
– Узнаю бухгалтерскую жилку, – пошутил Валентин. – Будем экономить слова.
– Нет, сынок. Будем беречь силы. Они через слова тоже уходят. Бог даст, еще докончу рассказ.
Глава 10Подарки судьбы, как и подарки природы, случаются не каждый день. Очередное утро за окнами домика Серединых рождалось долго и мучительно. Рассвет с трудом просачивался сквозь плотную мешковину серых туч. И все вокруг летницы поблекло, потеряло вчерашнюю контрастность и яркость, потонуло в мутной пелене сизого тумана.
– Наволочь нынче, – посетовала Оксана Семёновна, растапливая печь. – Тяга никудышная, никак огонь не разгорится.
– Должно быть, к дождю? С вечера стало ноги крутить, а под утро так совсем невмоготу, – отозвался Яков Васильевич, старательно растирая немеющие икры ног.
– Давай помогу, – предложил Валентин, встав со скрипучей старенькой раскладушки.
– С грехом пополам, но сам управляюсь, – ответил отец.
Он полусидел на постели, согнув ноги, и шаркал узловатыми худыми пальцами по байковым кальсонам ниже колен.
– Ты с нашатырным спиртом разотри, сынок, – посоветовала Оксана Семёновна.
– Хорошо, мам.
Валентин снял с ног отца вязаные шерстяные носки, сдвинул вверх мягкие колошины кальсон и принялся за дело с ухваткой бывалого массажиста.
– Ты не дюже усердствуй! – взмолился Яков Васильевич. – Растрясешь до смерти.
– Не переживай! Лишнее в отхожее ведро вытрясем, остальное заставим работать в нужном режиме.
– Ты заставишь! – без укора проговорил отец.
– Заставлю, заставлю. Будешь бегать. Еще как будешь! Давай другую ногу. Печет?
– Вроде теплей стало. Зараз встану. Расхожусь постепенно.
– Жаль, день сегодня не для уличных прогулок. Не то что вчера. Сырой, мрачный.
– Как в шахте, – неожиданно дополнил характеристику дню Яков Васильевич.
– Вот-вот, – подхватил Валентин, – как раз для воспоминаний о твоей шахтерской эпопее.
Он скатал в рулон свою постель и положил на материнскую кровать. Убрал раскладушку с прохода, освобождая пространство для прогулки отца.
Яков Васильевич надел вельветовые штаны, заправил их в карпетки – шерстяные носки домашней вязки. Немного погодя достал из платяного шкафа зеленый военный китель со стоячим воротником и накладными карманами на груди – популярный наряд станичников старшего поколения. Надел его, застегнув на все пуговицы и крючки. Вместо валенок обулся в просторные кожаные чирики – самодельные домашние туфли-галоши. И в этом традиционном для станичника одеянии еще больше отдалился от образа недужного старца. Как показалось сыну, отец даже меньше сутулился, чем прежде.
– Мам, погляди-ка на батю, – позвал Валентин. – Чем ни гулебный атаман?!
– Ну, только до парикмахерши дойтить, штоб трошки прическу приаккуратила, и можно – в клуб на сходку казачью! – рассмеялась Оксана Семёновна.
– Што вы, ей-богу? – смутился старик. Но, проходя возле зеркала, взглянул на свое отражение и пригладил на левую сторону поредевший чуб. – Картуза нету. Надо справить. В Ростове шьют. Молодняк в станице весь прибран, а до стариков не дошли.
– Может, тебе и шаровары с лампасами справить, атаман? – со смешком в голосе поинтересовалась Оксана Семёновна.
– Так не помешало бы. У сына наверняка есть?
– Есть, – подтвердил Валентин. – Прости, отец, не пришло в голову для тебя заказать. У нас в ателье при Академии бронетанковых войск свой закройщик имеется – Олег Чумаков. Отличный мастер. Восстановил все дореволюционные образцы казачьей формы. Давай мерки снимем, и тебе сошьет. Мам, где у тебя швейный метр?
– Вы што, издеваетесь? На кой ляд она ему сдалась… перед с… – Оксана Семёновна вдруг осеклась на недосказанном слове, как перед внезапной преградой, и, понизив голос, закончила фразу: – Перед станичниками срамитса?
– Мама, казак безлампасный все равно что бесштанный.
– Ну, шут с вами! Форсите, коли охота. Метр – в машинке швейной, под столом. Совсем сказились!
Семёновна еще немного поворчала в адрес мужской половины семьи, иронизируя над старательными обмерами Якова Васильевича, вполне серьезно решившего приодеться в казачью форму, про которую семьдесят лет и думать забыли в станице. Да вот новое поветрие на возрождение казачества началось. И ее младший сын этому немало способствовал в Москве, убеждая депутатов Верховного Совета и чиновников в Министерстве обороны в нужности этого процесса. «Разве ж дадут опять волю казакам, – думала она, – когда Кремль всю власть в свои руки взял? Вон Ельцин и его команда показали, как они свои интересы блюсти будут. А тут втемяшили дурачки себе в голову – лампасы им нужны! Как дети малые».
Но она быстро примолкла и стала чутко прислушиваться к разговору мужа и сына, когда Яков Васильевич вновь начал вспоминать свои мытарства военной поры.
– Шахтер, конечно, из меня был никакой. Но лопатой махать – дело нехитрое. Поставили меня на погрузку угля в вагонетки.
Кидаю помалу, присматриваюсь к тем, кто рядом находится. Люди, надо сказать, разнокалиберные были. Семён Дубина еще в бараке предупредил: «В смене разный народец есть. Охранника Андрея Рябенького, что в забой спускается, опасаться не стоит – свой парень. Но есть и подсадные утки – провокаторы. Так что ухо надо держать востро, а язык не распускать».
Работают все по-разному. Кто-то старается, как на стахановской вахте, кто-то не шибче меня лопатой шевелит. Но явных лодырей нет. Все знают, что доносчики не упустят случая отличиться перед лагерным начальством.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.