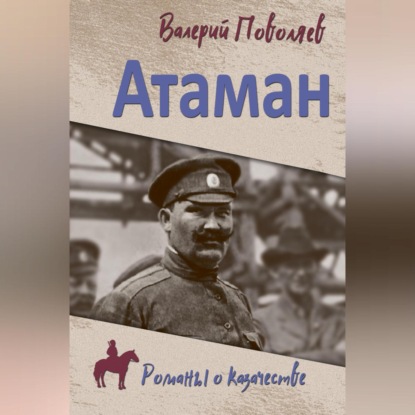Полная версия
Степная сага. Повести, рассказы, очерки

Валерий Латынин
Степная сага
© Латынин В. А., 2023
© ООО «Издательство «Вече», 2023
* * *Предисловие. Записки русского офицера
Сюжеты из этой книги, как в зеркале, отражают бурную и богатую историческими событиями жизнь автора. Родись он чуть раньше или немного позднее, содержание книги было бы другим. Но именно временными обстоятельствами ценна книга. Валерий Латынин – дитя своего времени, ему был дан шанс увидеть и запечатлеть разлом эпохи. Трагические дни крушения советской империи глубоко повлияли на судьбы миллионов людей. Личную драму пережил и Валерий Латынин. В расцвете сил, на пике военной карьеры полковник Советской армии, успешный журналист и поэт уволен со службы. За неблагонадежность. Как сторонник и защитник Белого дома в известных событиях октября 1993 года. Как и многие его товарищи по службе.
Повесть «Тавро Каина» – о тех событиях, о патриотах и предателях. Валерий Латынин нашел свои краски и образы. Черный октябрь увиден и пережит горячим сердцем, долгими и мучительными размышлениями. Уволенный со службы, как говорится, подчистую, полковник Середин едет на родину, на Дон, чтобы обрести уверенность и надежду в родном доме, рядом с родителями, с земляками. Середин, конечно, условный герой. За ним узнаваемо стоит сам автор. Повесть глубоко автобиографична. Встречи и беседы с простыми казаками, с ветеранами Великой Отечественной войны укрепили его в правильности жизненного и политического выбора. Отныне прочь сомнения! Он теперь знает, что делать…
В Москву наш герой вернулся другим человеком. Богатырская закваска и неуемный характер бросили Середина в самую гущу бурлящей московской жизни. Он инициатор создания всероссийской общественной организации Союза казаков России. Его избрали товарищем (заместителем) атамана. Отставной полковник занялся рутинной черновой работой по возрождению и становлению казачьей организации. И в том, что казачья структура стала влиятельной общественной силой – заслуга неутомимого атамана.
В это же время полковник Латынин избирается членом правления Союза писателей России. Создает секцию казачьих авторов на Комсомольском, 13. Печатает свои стихи и переводы, очерки и рассказы в различных издательствах страны и за рубежом. Он загружен, занят работой до предела, востребован как никогда. И везде успевает, все у него получается. Я встречался с ним в эту пору в Москве и в Ростове. И дивился, любовался его деятельным, неуемным характером, мощной атлетической фигурой и гордой посадкой крупной породистой головы. Таким виделся мне молодой Степан Разин, близкий земляк Латынина. Та же вольная казачья стать в плечах, атаманская твердость и власть в спокойном взгляде. Недаром казаков издревле называли степными рыцарями. Недаром и сегодня в Константиновске выбирают призывников в Президентский церемониальный конный полк. Нержавеющая казачья порода!
Повесть «Иса» написана по горячим следам убийства атамана Сунженского отдела Терского казачества в Чечено-Ингушетии Александра Подколзина. Смерть атамана всколыхнула казачество. Из республики в Москву давно шли жалобы на участившиеся конфликты на национальной почве. Убийство атамана среди бела дня грозило взрывом. На похороны товарища съезжались казаки со всей России. Латынин в составе официальной делегации Союза казаков встретился с руководством республики.
В своей небольшой повести-репортаже Валерий Латынин деликатно и точно описал трудные, огнеопасные переговоры с чиновниками. И тяжелую, гнетущую атмосферу самих похорон. В воздухе витала безысходность, тупик. Чиновники отводили глаза и не хотели признавать убийство на национальной почве… Но неожиданный финал повести, как вспышка молнии, озарил трагический финал проблеском надежды, маячком в завтрашний день республики…
Писатель увидел на улице подростка у забора. Его глаза. В них дымилась невысказанная тайна. Казалось, она жгла его изнутри желанием рассказать, поделиться. Писатель подошел к мальчику, и тот молча указал место:
– Тут.
Недалеко от забора в пожухлой траве были остатки запекшейся крови.
– Ты видел?
Мальчик кивнул и рассказал, как молодой человек босиком подкрался к атаману сзади и два раза ударил ножом в спину. И скрылся в поджидавшей его легковушке.
– Как тебя зовут?
– Иса.
– Кем ты хочешь стать?
– Офицером.
Писатель увидел в смелом подростке будущее Ингушетии.
А я увидел в авторе мастера, сумевшего сделать репортаж художественным озарением.
В книге немало находок и озарений. Автор никогда не берется за рассказ ради рассказа. Он всегда находит свой угол зрения и на своем опыте предметно и доказательно подводит читателя к исторической правде событий или правде отдельной личности. Таковы его записки о легендарном командире конного корпуса Борисе Думенко. Не умаляя заслуг Семёна Будённого, Латынин приводит новые доказательства его вины в гибели Думенко.
Показателен очерк о своем друге и наставнике, поэте и прозаике Борисе Куликове. Из всего написанного о яркой, мятущейся личности поэта очерк Валерия Латынина наиболее полно отражает широту и мятежный казачий дух талантливого и красивого человека. Есть зримая схожесть и духовное родство двух земляков, поэтов, сынов тихого Дона. Куликова и Латынина.
Только Борису Куликову под силу было создать в родном Семикаракорске всесоюзный праздник День поэзии. Он проводился ежегодно с участием самых известных и знаменитых писателей и артистов СССР. Сюда приезжали и выступали Клара Лучко, Михай Волонтир, Егор Исаев, Владимир Солоухин, Николай Рыбников, Алла Ларионова, Григорий Пономаренко, Нонна Мордюкова, Владислав Дворжецкий, Татьяна Самойлова, Виктор Боков, Анатолий Софронов, Владимир Цыбин, Владимир Фирсов, Борис Примеров…
В Красноярске Валерий Латынин познакомился с Виктором Астафьевым и позже написал о нем очерк. Это было в те времена, когда на Астафьева свалился шквал жесткой критики. За роман «Прокляты и убиты». Писали разные авторы и по-разному, но сходились в одном. Роман жесток и несправедлив к участникам войны, к освободительной миссии Советской армии. Писали солдаты и генералы, друзья и недруги. Даже горячие сторонники старого и больного писателя отрекались от него. Борис Куликов опубликовал открытое письмо с резким осуждением вчерашнего кумира.
Латынин хорошо знал ситуацию вокруг писателя, как тяжело и замкнуто переживал Астафьев, и мог, конечно, вступить в полемику. Но он поступил иначе. Он показал прежнего жизнелюба, мудрого и ироничного, острослова, добродушного и колючего собеседника. Латынин любовался очарованием старого и больного писателя. Перед ним был тот же Астафьев, солдат и работяга, весельчак и балагур, учитель и наставник. Меня поразили его глубокие наблюдения и размышления о Шолохове. Он понимал самую сущность вешенского насельника, его редкий природный дар, глубоко народный талант. Чрезвычайно ценное свидетельство Латынина! Либеральная критика навязчиво противопоставляла Астафьева Шолохову, считала его сторонником Солженицына в оценках Шолохова.
Заключая свои заметки о книге Валерия Латынина, я хочу отметить редкое нынче качество этого писателя. Честное и пристрастное отношение к литературе, к слову. Служение правде, возвышенное и земное.
Василий Воронов
Станица Старочеркасская,
Ростовская область
Повести
Тавро Каина
Глава 1Новенький, отливающий свежей ярко-красной эмалью будильник громко тикает перед латунной иконкой Богоматери «Донская» на старинном деревянном комоде, почерневшем от времени и многочисленных слоев лака. Над ним, между двумя небольшими окошками, висит, чуть склонившись вниз, засиженное мухами, будто в отметинах оспы, столетнее зеркало, в такой же темной, как и комод, деревянной раме. От комода к печке-голландке, перегораживающей комнату на две половины, протянулся метра на четыре самодельный лоскутный половичок. С одной стороны от него громоздится рыжий, местами взрыхленный древоточником, двухстворчатый платяной шкаф и покрашенная суриком металлическая кровать-полуторка; с другой – впритык друг к другу притулились два венских стула, раскладной деревянный стол, на котором стоят патефон, коробка с пластинками Апрелевского завода, пузырьки с лекарствами, лежат два пузатых и ветхих фотоальбома, очки в роговой оправе с привязанной к дужкам резинкой.
К столу придвинута узкая солдатская койка. Над ней единственным многоцветным пятном выделяется немецкий гобелен с изображением леса, криницы, домика лесника и девочки, кормящей олененка травой из корзинки. По стенам комнаты, там и сям, где возможно подойти поближе, развешаны в самодельных рамках, покрашенных тем же, что и кровать, корабельным суриком, наборы разномастных черно-белых фотографий. На подоконнике, возле солдатской койки неумолчно «побрехивает» однопрограммный радиоприемник в посеревшей от въевшейся пыли пластмассовой коробке.
Вот и все убранство жилой половины этого крохотного сельского дома. Собственно, и не дома даже, а кухни-летницы, как называют на Дону, то есть помещения для летних хозяйственных нужд – приготовления пищи, корма для скота и птицы, всяческих заготовок и консерваций на зиму. В станице такое строение является важным придатком к основному дому.
Для Якова Васильевича и Оксаны Семёновны Серединых летница – их последняя обитель после продажи куреня и половины подворья. Умаялись старики вести большое хозяйство, да и не нужно оно стало. Дети выросли, выучились, разъехались по городам. Живут без нужды. А старикам для себя много ли нужно? Жаль, конечно, и сада, и виноградника, и более просторного куреня, где много лет обитала их большая шумная семья. Да ничего не поделаешь. Молодость все под себя норовит подгрести, а старость – от себя. Закатывается жизнь стариков, как солнце за Донецкий кряж. Видать, отбегали свой земной срок, отработали, отбедовали? Пора и на покой. Оксана Семёновна еще более-менее крепится, держится из последних сил, а Яков Васильевич совсем сдал, не осталось сил даже подняться с кровати.
Громко и назойливо ведет отсчет утекающим секундам яркий будильник, похожий на молодого и задорного станичного кочета. В унисон с петушиной прытью будильника не умолкает «брехунок» – радиоприемник на подоконнике, оглашая комнату то визгливыми завываниями на непонятном языке, то бесстрастными голосами дикторов, вещающих известия о сваре между депутатами и президентом России.
Оксана Семёновна колдует у печки, выгребая совком еще теплую жужелку от перегоревшего угля. Новый день занимается за окошком, начинать его нужно, как всегда, с растопки печи, приготовления завтрака.
– Зараз чайник поставлю, – говорит она, обращаясь к мужу. – Погреем тебя чайком. Озяб, поди, утром? Выстыло в хате.
Яков Васильевич молча ворохнулся в постели, давая понять, что слышит жену, но говорить с ней не стал. Не было ни желания, ни сил. Хворь все больше и больше одолевает его тело, сознание, волю, все глубже погружая в холодный и мутный омут угасания. Иногда он на какое-то время возвращается к реальной жизни, как бы выныривая из своего забытья. Обращается к жене с просьбами. Слушает радио. Вздыхает. Постанывает. И вновь то ли засыпает, то ли проваливается в обморочное состояние.
На этот раз, молча поворочавшись, он вдруг сдвинул в сторону полушубок, прикрывавший одеяло. Приподнялся на локте. Выпростал из-под одеяла ноги в бледно-голубых байковых кальсонах и белых шерстяных носках домашней вязки. Стал нашаривать тапки.
– Ты чего, Яша, на ведро хочешь? – шатнулась к мужу Семёновна. – Давай помогу.
Подхватила Якова Васильевича под руку и подвинула к нему отхожее ведро. А он в другую сторону тянет. К вельветовым штанам, что перекинуты через спинку его койки. И откуда силы взялись?!
– Штаны дай, «москвичку». Мне выйти надо…
– Куда, Яша? Ты же из хаты больше месяца не выходил.
– До Атлановых пойду.
– Яша, Господь с тобой! Какие Атлановы? Померли они.
– Пусти, – вырывается Яков Васильевич. – Меня мама за домом Атлановых ждет.
– Ой, Божечки! Мама-покойница… Ты бредишь, Яша? Мама твоя вместе с отцом еще в двадцатом году загинула. Очнись же, – затрясла исхудавшие плечи, силой опуская мужа на кровать.
Яков Васильевич сел. В глазах мелькнул осмысленный испуг.
– Это ты, Ксюша? – спросил он слабым невнятным голосом. – Примстилось мне штой-то.
– Ну, кто же еще? Горе ты мое луковое! Ложись, ложись. Я разотру тебя зараз. Борщом накормлю. Хочешь борща? Со сметаной… с чесноком…
– Я только что маму видел. Звала она: «Иди к нам, Яша, здесь хорошо».
– Не к добру это. Покойники перед смертью снятся. Выходит… ты туда засобирался?.. – Семёновна на какое-то время перестала растирать спину Якова Васильевича нашатырным спиртом и рассуждала вслух. – Выходит, бросить одну хочешь на этом свете?
– Ну, зачем ты так, Ксюша? – со слезами в голосе выдавил старик. – Рази я своей волей?
– А ты противься. До лета… до тепла… до приезда детей и внуков на побывку. Крепись, не поддавайся. Зачем тебе в стылую землю ложиться?
– Силы ушли. Кружка из рук валится. Сама знаешь, а буровишь што попало…
– С того и буровлю, што не хочу отпускать, – устало проговорила Семёновна, укладывая мужа в постели на высоко взбитые подушки. – На все Божья воля… Дал бы еще трошки на своих ногах побегать, да и прибрал без мук… Ты не дремай, я зараз поесть принесу.
– Не хочу ничего.
– Так борщику… Запашистый. На толченом сале.
– Ну, если совсем трошки…
Оксана Семёновна положила поверх одеяла на груди мужа льняное полотенце с вышитыми красными петухами, опустила, придерживая рукой, миску с борщом. Сама вполоборота примостилась на узкой кровати и стала заботливо и терпеливо, без излишней спешки и настойчивости кормить больного. Хлеб она предусмотрительно покрошила в жидкость, чтобы старик без напряжения и труда мог проглатывать еду.
– Вкусно?
– Не спеши, – вместо похвалы пробурчал Яков Васильевич. – Дай отдыхаюсь. Все нутро запалилось. Ты туда горького перца без меры набухала.
– Дак макнула трошки… кончик стручка. Для вкуса. Какой же борщ без острого перчика? Тебе-то счас особо полезно – кровушку твою стылую разбудит, погоняет скрозь.
– Печет дюже. Дай запить. Молока.
Оксана Семёновна вскинулась выполнять просьбу мужа и остановилась на полпути.
– Шурочка молока-то утрешнего не приносила еще. Узвар есть из сушки. Будешь?
– Давай узвару.
Он жадно выпил несколько глотков и отстранил голову от зеленой эмалированной кружки: «Не могу больше».
По седой, давно не бритой щетине на подбородке скатились коричневатые капли компота из домашних сухофруктов.
Семёновна промокнула их хвостом петуха на полотенце и поставила кружку с компотом на стол возле больного.
– Отдохни. Радио послушай. Я нонче еще не слушала. Што там в Москве творица после Борискинова указу по разгону Советов? Опять власть в России делют. Весь век с семнадцатого году делют и никак разделить не могут. Стоко людей загинуло в Гражданскую, при расказачивании да раскулачивании, а все одно покою нет… Сызнова стенка на стенку сходются. За Вальку нашего тревожно, он же тоже в депутатах ходит. Не полез бы в драку. Царек-то хоть и пьяница, а без войны трон не отдаст. Жаден до власти.
– До царя Бориске далеко. Временный он. Захотят люди и ссодют.
– Дак депутаты захотели, а он-то раскорячился… Ни в какую не желает выметаться из Кремля. Сам всех гонит в шею. Срамота на весь мир. Кому-то – смех, а России – слезы.
– Лишь бы не кровавые, чтоб простые люди не пострадали. А то паны дерутся, а у холопов чубы трещат… Подремаю я трошки. Сморило после еды.
Яков Васильевич устало смежил пергаментно серые веки и вскоре провалился в свой тяжелый сон-забытье.
Семёновна наскоро перекусила на кухонной половине, помыла посуду в эмалированном тазу, выплеснула помои в отхожее ведро, вытерла руки фартуком и примостилась у стола смотреть альбомы. Это занятие они с мужем в последние годы повторяли все чаще. Страница за страницей пролистывали свою жизнь от истоков к устью. Встречались со всеми живыми и мертвыми сородичами и друзьями. Вспоминали смешное и грустное.
Оживлялись в такие минуты, подтрунивали друг над дружкой, как в былые годы, раздували затухающий костерок жизни.
Иным карточкам за сто лет перевалило. Там еще их родители со своими отцами и матерями сфотографированы. Смешные снимки. Все на них важные, наряженные, будто баре. Мужчины сидят в креслах, нога за ногу!.. Сбоку – дети. Жены – за спинами мужей, как за увалами.
«Платье на маме праздничное… с оборками, – подмечала Оксана Семёновна. – Видно, заказывали у станичного портного. Как на царице сидит. Самой на хуторе так красиво не сшить. И ботиночки, шнурованные по ноге. На каблуках! Я таких до шестидесятых годов и не видывала, не то штоб носить… Хотя и я у родителей разутая не ходила. Папа на паровой молотилке неплохо зарабатывал в немецкой экономии и по наделам зажиточных казаков, было на што одеть и обуть нас с братишкой Васильком…»
– Ах, Василек, Василек, зачем тебя Господь забрал так рано? – сама того не замечая, вслух запричитала Семёновна над пожелтевшим от времени снимком белоголового и большеглазого мальчика в матросском костюмчике и бескозырке, стоявшего на фоне брички с парой ладных дончаков.
– Ты штой-то сказала, Ксюша? – слабым спросонья голосом спросил Яков Васильевич, открыв глаза.
– Выскочило ненароком. Я альбом листаю. Хочешь поглядеть?
– Можно. Очки подай.
Оксана Семёновна надела мужу очки, завела за голову резинку, привязанную к дужкам. Помогла приподняться выше на подушках и подвинула свой стул к его кровати.
– Так видать? – развернула альбом на его груди.
– Чуток дальше отодвинь. Будя. Теперь вижу… Какие вы тут чудные! Ты с матерью – в платьях, а Семён Антонович – в казакине и папахе… Граммофон на стол выставил. И штоф наливает. Фотографу, што ли?
– Так для куражу. Это ж после уборочной. Токо обновы справили, ну и вырядились каждый в свое… похворсить. Хвотографы знали в ту пору, когда людям есть чем заплатить и чем похвалиться… Это в тридцатых и сороковых захужело на селе. Денег у людей не стало. Одни палочки трудодней на бумаге рисовали. За них по осени не похворсишь обновами – с голоду бы не помереть… А нас как раз угораздило пожениться.
– Срок подошел, вот и угораздило. Природа свое требовала.
– Мне-то еще шестнадцать не исполнилось, а ты посватал… Эх, была бы жива мамочка родимая, пожалела бы дочку, не гнала от себя раньше времени. Да померла мама, сгорела, как соломинка. А мачехе не терпелось ссадить с шеи и перекреститься на радостях, что сбагрила лишний рот в чужие руки…
– Так разве в плохие руки? Ты вспомни, Ксюша, много ли о ту пору завидных женихов было? Разорение скрозь, упадок. По хуторам и станицам одна голытьба осталась. Всех, кто более-менее хозяиновал, покулачили, сослали, куда и не снилось никому. А я хоть и сирота, но полную начальную школу осилил, бухгалтерские курсы…
– Не думала я тода про все такое… Хотелося еще годок-другой в дочках побыть, с подружками погулять, а не своих детей рожать.
– Ну, теперь-то што об этом толковать? Не повернешь назад.
– Не повернешь… А все же обида осталась… Не на тебя – на батюшку мово. Даже мачеха мою сторону приняла. А он сказал, как отрубил: «Не позволю хорошего парня обижать отказом. Достойные женихи на дороге не валяются. Недосуг ему ждать, пока ты за ум возмесся и перестанешь с подружками на вечерках околачиваться да лясы точить. Пора самой свою судьбу строить, свою семью заводить. Быстрей поумнеешь». Отцовской воле грех перечить. Вот и пошла я, считай силком, замуж, вдвоем с тобой бедовать, сынов и дочек наживать.
– Всем в ту пору несладко жилось. Все за палочки трудодней горбатились. Но выживали же? И мы как все. Хозяйством помаленьку обзаводились. Хату построили. Пусть саманную, с земляным полом, но свою. И радостно было. Ведь так? Вот погляди на карточку, где мы с первенцем нашим снялись. Ведь смеемся во весь рот. Юрик в портянку вместо пеленки завернут, а мы рыгочим, как дурные.
– И впрямь дурные! Я ноги под лавку прячу, штобы не видно было худых сандалий. Чулок вовсе не было, даже бумазейных. Да што чулок? Рейтузы одни были, застиранные до дыр, и те зимние. Стыдобушка.
– Но смеемся же чему-то?
– Черт его знает, чему!.. Молодые были, здоровые, – примирительно вздохнула Семёновна. – В молодости все беды нипочем… Тут вот гляди – Нюра в школу собралась. Люда провожать ее наладилась. А Никитка на них абреком зыркает, завидки его берут… Байстрюк желторотый, а угрожал сестрам хворостиной: «Сяс дам вам»…
– Да уж, куда там, вояка был! А не стал, как Юрик, Слава и Валентин, офицером. За Нюрой и Алей учительствовать подался.
– Оно, конешно, так… Но характер у Никиты все одно командирский, иначе не вышел бы он в директора, – с довольными нотками в голосе проговорила Семёновна. И тут же жалостливо добавила, показывая на новый снимок: – У тебя в сорок первом году вид был совсем не геройский. Галихве широченные. Гимнастерка велика. Двоих таких, как ты, в такую амуницию поместить можно. Худющий, как вьюноша.
– А все-таки сапоги выдали, не ботинки с обмотками, как другим красноармейцам. Писарем назначили. Выходит, уважили за грамотность, – погордился чуток Яков Васильевич.
– То и все уважение за мучения твои на фронте и в плену, – вздохнула жена. – Да еще будильник, што передали из сельсовета на нонешний праздник Победы. Дюже уважили!
Старик не нашел, что ответить. И молча положил жилистую и бугристую, будто связанную в нескольких местах морскими узлами, крестьянскую ладонь на военную фотокарточку, бережно потрогал ее, словно нащупывал пульс давно минувшего времени, и смежил дрогнувшие веки.
Семёновне передалась его внутренняя боль, и она, чтобы как-то загладить свою невольную вину и смягчить переживания мужа, заговорила о той поре иным тоном:
– А я всю войну верила, што ты живой… Мне в ночь перед получением письма о твоей пропаже без вести ворон приснился. Токо он хотел сесть на хату, я как шуганула: «Кыш, проклятый!» Он и улетел. Сон вещим оказался – дождалась свого солдата живым. Почти через пять лет, но дождалась… А тебе знамений не было?
– Знамений? Не помню, – воротился к разговору после минутного приступа душевной слабости Яков Васильевич. – Мне Митрофан Захаров долго снился… Наш полк в поле под Миллерово минами накрыло. Мы с Митрохой после призыва старались завсегда рядом держаться. Все ж земляки, с одного хутора. Кто еще подсобит в беде, ежели не земляк?
Вот и в тот день рядом были, кашу хлебали из котелков. За кой день горячей пищей подхарчились? Хоть и невеликое благо – солдатская перловка с запахом мяса, а душу греет. Кто-то уже и козью ножку крутить надумал, пыхнул дымком в небо. А оттуда как шарахнет немецкий гостинчик – навесная мина. Потом – вторая… третья… И началось светопреставление!
Все бойцы по щелям забились. А фрицы и в траншеи навешивают. Слева, справа, спереди вздымаются черные фонтаны земли. Осколки секут брустверы. Уж кто-то неподалеку хрипит предсмертно. Все ближе и ближе к нам с Митрохой мины рвутся. И тут меня как надоумил кто-то – надо в воронку от уже разорвавшейся мины прыгнуть, второй раз в одно и то же место не попадет.
«Прыгаем в воронку перед бруствером!» – заорал я Захарову и, одним махом перелетев насыпь перед окопом, сиганул в развороченную недавним взрывом и вонючую от горелого пороха глубокую лунку. Скукожился в ней, как в мамкином животе. Мысли токо об одном: «Спаси и сохрани, Господи!»
Митрофан то ли не услышал меня, то ли не захотел из окопа вылезать… Все ж – укрытие, своими руками выкопанное.
Когда разрывы отдалились, я тоже пополз к нашей траншее. Спрыгнул вниз. Гляжу – народ отряхивается от песка, в себя помаленьку приходит.
Митроха в своей нише тоже ворохается. Стало быть, живой. Привалился спиной к одной из стенок и што-то руками вокруг себя нашаривает. Может, винтовку?
«Живой, земеля?» – окликаю радостно.
А он и повернулся ко мне… Господи!.. Лицо серое, без кровинки. А в руках… собственные кишки держит. Это он их собирал по земле. Молчит. Трясется. И смотрит на меня с жутким недоумением: «Как же так, ты жив, а мне конец?»
Спазма у меня началась. Выворачивало до желчи. А потом схоронили Митрофана Захарова и других погибших в овраге за боевой позицией. Крест из патронного ящика сделали. Фамилии и имена написали. Может, и нашли после войны солдатскую могилу, обелиск поставили, а может, и нет? Скоко таких могилок до Берлина раскидано по местам боев? Не сосчитать. Иных и хоронить некому было. Остались в траншеях да окопчиках. И у многих погибших одна фамилия – «неизвестный солдат». А ты, Ксюша, говоришь, будильник – недостойная награда. Будильник, он именной. А кто тех, безымянных воинов, защитивших Родину, помянет?