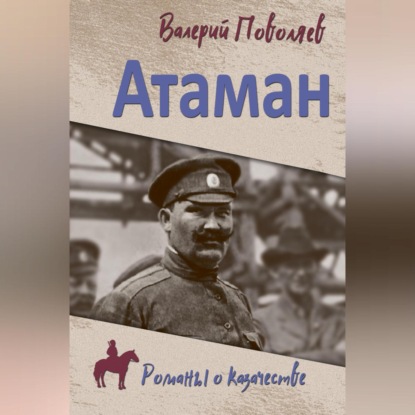Полная версия
Степная сага. Повести, рассказы, очерки
На столе в больших эмалированных мисках парили, разваренные в ухе, крупные – с мужской кулак – куски толстолобиков, на сковороде отливали золотистой корочкой поджаренные рыбцы, на тарелках матово блестели моченые яблоки и ломтики сала, алели скибки соленых арбузов и помидорные шары.
– За встречу! – сдвинули стаканы бывшие одноклассники.
– Хороша бражка! – похвалил Воробьев, промокая хлебом влажные губы.
– Это настоящее вино, а не бражка, – уточнил Григорьев, – я же сказал, что натуральный продукт, из чистого виноградного сока, без дрожжей, без сахара.
– А какая разница? – махнул рукой с надкушенным куском хлеба Виктор. – Лишь бы в голову било и настроение поднимало.
– Может, тебе и все равно, а мне нет. Вторак я только для выпивох делаю. И то – без куриного помета, как некоторые, чтоб забористей было. Для себя и гостей изготавливаю только настоящее вино, литров четыреста за сезон. От него крылья растут, а не копыта, если только лошадиными дозами не глушить.
– А кто их знает, дозы свои? – поинтересовался Володька Зимовой.
– Кто под забором не валяется и с красным носом не ходит, тот, наверно, знает, – рассудил Петр Столяров.
– Давайте стаканы. Будем дальше измерять свои дозы, – подцепил баллон за горло Григорьев. – Воробью больше трех стаканов не налью.
– Это почему? – удивленно вскинул кроличьи глаза Виктор. – Я слабже всех, што ли?
– Насчет того, слабже или нет, не знаю. А вот нос красный, а это, как сигнальная лампочка, говорит, что ты финишировал уже на этом направлении.
– Во, бляха-муха, дает! Нос мой ему не нравится. Это родителям моим выговаривать надо, что нос у меня такой, а не мне. Я-то здесь при чем?
– Ну да, ни при чем. Он у тебя с рождения покраснел, будущие выпивки почуяв.
– Вот язва! За это тебя и директор совхоза из своих извозчиков рассчитал.
– Напугал ежика голым задом наш барин. Я што, хуже жить стал? Сам себе хозяин. Ни перед кем шапку не ломаю. Не так?
– Так! – стукнул донышком граненого стакана о стол Воробьев. – Наливай, единоличник!
– Почему единоличник? – поинтересовался Валентин.
– А ты што, не знал? – повернулся к Середину Петр Столяров. – Единоличник и есть. Когда совхоз стал, как это сказать…
– Акционироваться, – подсказал Ложкин.
– Вот-вот, акционироваться. А Саня не схотел идти под ярмо, семейные паи на землю, что поделили между станичниками, забрал. Сам теперь управляется. А мы в кабалу попали, по нескольку месяцев зарплату ждем.
– Какую там зарплату? – хмыкнул Воробьев. – Натурпродукта. Хорошо, если зерном дадут. Помолоть на муку можно. Скоту скормить, птице. А если – яблоками, че с ними делать? Токо бражку. Ну, братцы, за здоровье!
– Воробей, не гони вороных! Успеем еще набраться под завязку, – урезонил нетерпеливого товарища хозяин дома. – Мы все-таки давно с Валентином не виделись. Не мешает поговорить по-трезвому. Нам есть что вспомнить. С малушка дружим, лет с двух или трех. У меня в альбоме фотография есть, где мы с ним возле лисапеда стоим, ростом с колесо. Во как!
А представляете, какие у меня были глаза, когда ко мне в часть, что за три тысячи верст от дома, в казахстанских песках, Валька в курсантской форме заявился? Я чуть с катушек не съехал, думал – глюки. Все взаправду оказалось. Узнал Валька из писем родителей, что я попал в Капчагай служить, взял увольнительную и ко мне из Алма-Аты мотанул. Потом я к нему не раз в увольнения ездил, да и не только в увольнения, по правде сказать. Такое, маэстро Ложкин, не забывается. Так что ты зря нашего кореша на вшивость проверяешь.
– Я же не сам выдумал, в газетах писали…
– Мне на ту писанину – тьфу! Понял? Покупные писаки в любую сторону что хочешь накатают. А Валентин – человек! И никто меня не переубедит в обратном.
– Да никто и не собирается переубеждать. Давай лучше накатим за друга детства. Он нам тоже не чужой.
Разговоры смолкли. Звякнули стаканы. Причмокнул от удовольствия Виктор Воробьев. Дружно застучали ложки, вычерпывая из мисок наваристую уху. На плите смачно шкварчала сковорода, и по горнице растекались ароматы жареного мяса и чеснока. Жена Александра – Люба готовила очередное угощение для компании.
– Котлеты? – чутко повел носом в сторону хозяйки Ложкин.
– Да. Все никак не успокоится моя квочка. Боится, чтобы вы голодными не ушли.
Ложкин благостно погладил рукой припухающий живот, с певучими нотками в голосе похвалил заботливую жену друга:
– Дай Бог здоровья Любаше, никто в станице вкуснее ее не готовит!
– А ты уже во всех дворах успел постоловаться? – поинтересовался Столяров.
– Ну, может, не во всех, но во многих. У нас народ консервативный, любит живую музыку. Магнитофонов с музыкальными кассетами и дисками ему не хватает. Предпочитает песни под гармошку или гитару. Да и хором еще поют. Правда, больше – старики. А молодым гитару подавай. Так что мы с моей шестиструнной подругой не скучаем.
– Потому и не женишься никак, все молодух своими песнями охмуряешь, – хохотнул Зимовой.
– А я разок на молоке обжегся, теперь дую водку, – смешком ответил Ложкин. – Какие наши годы?
– Я уже дед, – торжественно сообщил Столяров. – Гляди, Вовка, допоесся, што некому будет стакан воды подать.
– Была бы шея, а хомут найдется, – отшутился Володька и, взяв гитару, запел: «Каким ты был, таким остался, орел степной, казак лихой…»
Под песню друзья продолжили трапезничать. Зимовой быстрыми движениями дохлебывал уху. Столяров осторожно обирал губами рыбий скелет. Григорьев, наклонившись над опустевшей миской и зажмурив от удовольствия свои челубеевские глаза, смаковал скибку соленого арбуза. Воробьев тоскливо смотрел то на порожний стакан, то на поющего товарища.
Середин, оперев подбородок на сомкнутые кисти рук, с интересом наблюдал за своими, уже далеко не молодыми, приятелями, воскрешая в памяти их детские образы. Из далекого и безмятежного времени выплывали румяные и улыбчивые мальчишеские лица, щупленькие фигуры, одетые в светлые сатиновые рубахи, хлопчатобумажные серые штаны, со многими следами штопок, а то и явными заплатками, в резиновые или кирзовые сапоги, пальтишки, перешитые из отцовских старых пиджаков. Вот они веселой, гомонящей стайкой идут с самодельными удочками рыбачить на ближайшие к станице рукава Донца, называемые речками и ериками, – Плеску, Барсовку, Замануху, Лебяжий и Гусиный ерики.
Сколько им было в ту пору лет? Пять – семь, не больше. Но каждый был уже довольно значительным помощником в семье, имея свои определенные обязанности по хозяйству. Они ухаживали за домашними животными и птицей, встречали с выпаса коров, а нередко помогали взрослым пасти стадо. Собирали упавшие на землю яблоки и груши на корм скоту и для приготовления сухофруктов на зиму, заготавливали траву для кроликов, пропалывали сорняки на огороде, собирали для топки печей, на которых круглогодично готовилась пища, подсохшие за день коровьи лепешки на улице.
Но главным увлечением мальчишек была, конечно же, рыбалка. Простенькими удочками с пробковыми или перьевыми поплавками, на примитивных удилищах из молодой акации или карагача эти шкеты умудрялись выуживать из речных омутов довольно приличных по размеру рыб – желтоглазую тарань, блинообразных чебаков, полосатых чекамасов, ярких красноперок и золотистых линей. Иногда улов, нанизанный на куканы из ивовых веток, был настолько велик, что оттягивал мальчишкам руки и рыбьими хвостами мел пыль на дороге к дому.
На Дону и Северском Донце им на крючок попадались серебристые язи с темными и широкими спинами, зубастая сула, губастые сомики и налимы, плоская, похожая на нож мясника, чехонь. Последняя налетала на любую наживку, как голодная крыса. Но, несмотря на свою худобу, сочилась жиром, когда ее после засолки вывешивали провяливаться на жарком степном солнце.
Сколько воды утекло с тех пор? Где эти безмятежные, спокойные деньки размеренной станичной жизни? Где степенные старики и старухи, неспешно беседовавшие о жизни на лавочках возле своих свежевыкрашенных или побеленных куреней? Где строительство жилья для молодых или погорельцев «всем миром»? Где гулянья всей станицей на свадьбах и проводах в армию? Где веселые ватаги ряженых на Масленицу и в ночь под Рождество?
Вроде те же речки и ерики, улицы и дома, то же небо над станицей, а жизнь совсем иная, замотная, унылая, без витамина радости, без уверенности в завтрашнем дне.
Зато на телеэкранах – сытые и довольные физиономии Яковлева, Ельцина, Бурбулиса, Гайдара, Чубайса и иже с ними. И несть им числа! И нет окорота их бесстыдному шабашу после кровавой вакханалии на Краснопресненской набережной.
– О чем грусть-тоска, Валюха? – положил свою крепкую пятерню на плечо друга Александр Григорьев. – Скажи-ка нам, полковник, что-нибудь эдакое… душевное.
– Не знаю насчет «эдакого», как получится, – поднялся со стула Середин. – Приятно и горько мне быть рядом с вами, дорогие мои одноклассники. Приятно, что могу вернуться мыслями в наше детство, увидеть себя и вас в другом обличье, в другой, более благоприятной, среде. А горько потому, что вижу и сознаю, что от той полнокровной жизни, того артельного духа почти ничего не осталось сегодня. Чужие лица – на телеэкране и в Кремле, новые, непонятно откуда взявшиеся, хозяева народной собственности, новая мораль – поклонения Мамоне, новые, чуждые нашей традиционной культуре, песни…
Мы с вами вдруг оказались бедными родственниками на чужом празднике жизни. Предлагаю выпить за тех, кто до последней возможности сопротивлялся прихватизаторам нашей страны и погиб в Верховном Совете России четвертого октября. Стоя и не чокаясь!
Воробьев живо вскочил со стула и шатнулся над столом, подняв стакан:
– Надо, надо за них. Ёшкин кот, хреново вышло…
Григорьев, Столяров и Зимовой поднялись одновременно, как солдаты по команде старшего.
Ложкин неторопливо отставил гитару и последовал их примеру. Было видно, что в душе он не согласен с Валентином, что его подмывает желание сказать что-то наперекор. Но, видя единодушие одноклассников, Владимир все же сдержался и молча поднял свой стакан.
Когда все сели и потянулись к закуске, он не особо запальчиво проронил:
– Не казачье все-таки дело защищать власть Советов. Я в этом вопросе согласен с атаманом Ратиным.
– Конечно, защищать народовластие – не казачье дело, а прислуживать кагану – казачье, – с иронией отозвался Валентин. – Кстати, а ты знаешь о том, что Ратин привез донцов первоначально к Верховному Совету и даже совместно с Московским землячеством казаков караулы выставил? Это потом ему либералы из иерусалимских мудрецов объяснили, что почем, где выгоднее покрасоваться, и потащили на телевидение делать нужное заявление. Знаешь такие детали из биографии своего кумира?
– Первый раз слышу.
– В том-то и дело, Володя, что большинство россиян, благодаря манипуляциям средств массовой информации, видят только верхушку политического айсберга, а основная его часть спрятана под водой.
– Только вы одни, москвичи, и видите реальную картину происходящего, а все остальные в России – слепые котята…
– И в Москве не все и не всем видно и понятно. Нет такого окошка, чтобы заглянуть в Кремль и в души его обитателей. Но кто умеет думать, самостоятельно анализировать получаемую информацию, а не доверять ручным комментаторам, тому скрытность властей не помеха, хоть в Москве, хоть на Дону.
– Что-то не знаю таких провидцев у нас.
– А ты к Тихону Иванычу сходи, – посоветовал Александр Григорьев, – он тебе быстро мозги прочистит.
– Это к нашему бывшему завучу?
– К нему, к нему. Ты когда-нибудь говорил с ним про политику?
– Встречаемся иногда мимоходом. Перекидываемся словечками про то, про се…
– Ты конкретно про нынешнюю кремлевскую семью поговори. Тогда поглядим, что запоешь. Правду гутарю, браты?
– Точно прочистит, еш твой клеш! – поддакнул Воробьев.
Остальные согласно закивали головами.
– Саня, а что тебя заставило пойти в единоличники? – поинтересовался Валентин.
Григорьев вскинул удивленные глаза, выражавшие бессловесный ответ: «Чего же здесь непонятного?» Но все же пояснил вслух:
– Круговое безделье после «катастройки»…
– Это как?
– А так. Виноград в совхозе еще Горбач с Лигачевым извели. Винсовхозы, в том числе и наш, развалились. Местное начальство ждет с моря погоды, чтобы кто-то приехал из Ростова или Москвы и за них проблемы устранил. Работы людям нет, денег нет, техника на ладан дышит, воровать нечего. Многие стали наниматься батраками к предприимчивым корейцам, что за взятки получили в аренду землю и выращивают на ней лук и арбузы на продажу местным аборигенам. Помогал и я какое-то время, кому делать нечего. Потом надоело обезьяну по кругу водить. Детей кормить надо, одевать, учить, а я, как безрукий, жду милостыни от властей, позволяю чужакам все соки из отчей земли высасывать. Ну и закусил удила – потребовал выделить наш семейный земельный пай в натуре. Из валявшегося вокруг механизаторских мастерских металлолома собрал гибридный трактор. Стал сам мороковать, как жить дальше.
– Получается?
– Вроде как грех жаловаться. Видишь сам. – Александр обвел рукой стол и комнату. – Не жируем, но и не бедствуем.
– Дак одна надежа в станице токо на Саньку, – заявил Воробьев. – Не у кого больше ни в долг попросить, ни опохмелиться. Крепко на ноги встал. Петруху и Зиму колеса кормят. Ложкина – гитара. А я – и там и сям, а толку никакого…
– А пиво – больше по усам! – ввернул Григорьев. – А все потому, что от материнской пенсии и от учительской зарплаты жены, как дите от сиськи, не отлипнешь. Давно бы вкалывал на земле, а не мотал сопли на кулак.
– Дак я же безлошадный, в отличие от вас, куркулей, а то бы взялся…
– Знаю, как ты берешься с атаманом станичным. Сетку наплавную кинете. Рыбу толкнете на базаре. Несколько дней казакуете. Потом по новой.
– Ну што ты, ёш твой клёш? В гости позвал, а не наливаешь, токо изгаляешься.
– Григорьевки мне не жалко. Пей, сколько влезет. Но разве я брешу?
– Не брешешь, но кусаешь. Обидно же.
– А мне не обидно? Оставил вам арбузы на своей бахче, чтобы от казачьего общества одиноким старикам развезли. Хоть бы какая-то польза была от лоботрясов в лампасах и крестах. А вы? Палец о палец не ударили. Ни себе, ни людям. Пока мой сын сам не загрузил тракторную телегу и не развез по домам стариков. Валентин, скажи честно, в Москве такие же кадры в казачье возрождение играют?
– Разные есть. Казаки из конно-трюковой группы Евгения Белгородского, например, показывают чудеса джигитовки. Через барьеры, стоя на двух скакунах, прыгают. В сотнях фильмов снялись. Весь мир объехали с представлениями. Сергей Гаврилов, профессор живописи, пишет казачью историю на своих полотнах, бытовые и батальные сцены, галерею портретов атаманов и прославленных воинов. Скульптор Константин Черняев создает бюсты и памятники знаменитых казаков прошлых веков и нынешних славных потомков казачьих родов. Кумылженец Владимир Куницын создал фольклорный ансамбль, ездит со своим коллективом по станицам и записывает старые песни, потом москвичам показывает настоящие казачьи распевы, а не два притопа, три прихлопа, как у большинства псевдоказачьих ансамблей. Журналист из ТАСС Алексей Жиганов собрал земляков по всей стране и направил их усилия на нужды родной станицы. В Генеральном штабе Вооруженных сил генералы и офицеры с казачьими корнями помогли создать первые экспериментальные полки, куда призывают казачью молодежь из одних мест, как это традиционно было у нас. Неплохо показали себя добровольцы Московского землячества во время военного конфликта в Приднестровье, в Югославии. Походный атаман Союза казаков полковник Умов с казаками Москвы и Приднестровья во время противостояния Верховного Совета и ельцинистов охранял Конституционный суд, чтобы судьи без опасения за свои жизни могли вынести справедливый приговор устроителям государственного переворота.
Есть, конечно, и в Московском землячестве пена в лампасах. Если вся страна покрыта язвами, как этого избежать казачеству? Нужно причину болезни искать среди кормчих, а не со следствием бороться.
– Да, вожди наши один другого краше в последнее время, то меченый, то беспалый! – констатировал Григорьев.
– Один, бля, – фазан, другой – медведь балаганный! – припечатал Воробьев.
– Вроде оба из народных низов вышли, а вытворяют все против народа. Как такое возможно? – посетовал Петр Столяров. – Вот ты, Валентин, образованный и видал эту публику не раз, объясни, почему это происходит?
– Короля играет свита. Так было во все времена. Кто окружает трон, тот и воздействует на политику правителя. Это подтверждается массой исторических примеров. Вспомните первого Рюриковича на киевском престоле – Игоря. Его окружала дружина наемных воинов-варягов. Им нужно было постоянно платить за службу. Княжеский двор кормился данью со своих подданных и частью этого дохода рассчитывался с воинами. Естественно, наемники смотрели на местное население как на дойную корову, которую пытались выдоить до последней капли. Они и подбили Игоря взять двойную дань с древлян. Чем это намерение закончилось, вы знаете. Древляне прозвали сына Рюрика «князем-волком» и во главе с удельным князем Малом выступили против ненасытного киевского властелина, загнали его в болото, схватили и казнили с помощью двух берез, а алчных дружинников перебили.
Не буду рассказывать сказки из «Повести временных лет» о том, как вдова Игоря княгиня Ольга якобы наказала восставших древлян. На самом деле она, чтобы сберечь варяжскую династию на киевском престоле, поступила гораздо мудрее – женила своего единственного сына Святослава на дочери древлянского правителя Малуше, а ее брата Добрыню сделала воспитателем будущего великого князя – Владимира. Того самого, который, как повествуют былины, «распас землю Русскую» и был любовно поименован народом «Красным Солнышком».
– Не тот ли это Добрыня, что на картине «Три богатыря» нарисован? – поинтересовался Петр Столяров.
– Тот самый, – подтвердил Середин.
– Надо же! А я думал, это только сказочный персонаж, а он – дядька князя Владимира! – удивился Петр.
Другие одноклассники тоже признались, что думали так же.
– «Сказка – ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!» – не зря Пушкин написал, – продолжил развивать мысль Валентин. – Добрыня – не придумка Васнецова, а герой народного эпоса, былин, передававшихся из уст в уста. Это он стал проводником славянской политики при великокняжеском дворе и способствовал замене варяжской дружины на русскую.
– Не вяжется что-то в этой складной истории, – подал голос Ложкин. – Ты сказал, что отца Добрыни звали Мал. Почему же отчество сына Никитич, а не Малович?
– Этому есть объяснение. Древлянский князь Мал был из рода Нискиничей. После восстания он несколько лет находился под домашним арестом в загородной резиденции Ольги – Любече. Былины называют его в тот период Малко-залешанин – затворник. Вспоминать принародно имя мятежного князя было запрещено, а православное отчество Никитич очень прозрачно намекало, чьим наследником является Добрыня. Это своего рода народный пароль.
– Интересное, блин, кино! – восхитился Виктор Воробьев. Он почесал затылок, будто доставал неожиданно блеснувшую мысль. – Это што же, блин, получается? Выходит, Ельцин – тоже «волк», а вокруг него – новые варяги, которые теперь нас, как липку, обдирают?
– Молодец, Витюха, могешь мозгой работать! – похвалил Григорьев. – Тихон Иванович точно поставил бы тебе пятерку по обществоведению.
– Наливай по такому случаю.
– По какому? За Ельцина, што ли?
– За Ельцина!
Ложкин удивленно уставился на Виктора, не понимая предложения товарища.
– Чтобы и для него в России крепкие березы отыскались! – закончил свой тост Воробьев.
– За это – с удовольствием! – протянул к Виктору руку со стаканом Столяров.
– Быть тому! – утвердил Середин.
И стаканы дружно отозвались: «быть»… «быть»… «быть».
Глава 6Старый глинобитный сарай с односкатной «кавказской» крышей и небольшим запыленным оконцем был доверху завален всякой всячиной, копившейся по хозяйской надобности годами и десятилетиями. Здесь рядом с исправным велосипедом, на котором Яков Васильевич до болезни гарцевал по станице и ее окрестностям, соседствовал его послевоенный «дедушка», искалеченный вдрызг, облезлый и безногий, непонятно для чего оставленный. Скорее всего, по извечной крестьянской думке: «Авось сгодится по какой-либо нужде». Так же, как угольные и печные утюги; рассохшаяся деревянная прялка с большим колесом, похожим на пароходный штурвал; дюжина рубанков и фуганков, давно выслуживших все мыслимые сроки годности, растерявших свои вставные металлические зубы; безрукие лопаты; щербатые грабли; большие консервные банки из-под селедки, набитые ржавыми гнутыми гвоздями; металлические обручи на кадки, давно ненужные, ибо и сами кадки нынче вышли из хозяйского употребления; остовы керосиновых ламп и керогазов; рассохшиеся и колченогие венские стулья…
Для музейщиков и заядлых собирателей предметов старины здесь наверняка нашлись бы интересные экспонаты конца девятнадцатого и первой половины двадцатого века, периода до электрификации села. Но до этих экспонатов пришлось бы добираться через баррикады вишневых и яблоневых чурбаков, тяжелых, крученых и сучковатых, а потому не порубленных в свое время на поленья, оставленных до подходящего момента, как и многое другое под этой крышей.
Подбирая более-менее пригодный для приспособления под «биотуалет» стул, Валентин решил в ближайшие день-два разобраться и с чурбачным навалом.
С первой задачей он справился достаточно успешно для начинающего конструктора – выдолбил стамеской посередине сиденья стула подходящее отверстие, зашкурил наждачкой, обклеил картоном. Укрепил ножки саморезами. Снизу соорудил полку для отхожего ведра. Вот и вся нехитрая конструкция. Зато ослабевшему за время болезни отцу возможно самому, без посторонней помощи, нужду справить.
– Царствуй, батя, с комфортом! – провозгласил сын, ставя свое сооружение неподалеку от кровати Якова Васильевича. – Только крышку с ведра не забывай снимать.
– Постараюсь, – с нотками сомнения в голосе ответил старик, пошатав стул рукой, проверив на устойчивость. – Вроде не хиляется?
– Фирма гарантирует. Будь спокоен. Выдержит любые нагрузки. Под сиденьем – дополнительная опора из металлического обруча поставлена. Все на саморезах скручено. Надежный трон.
– Бог даст, не осрамлюсь впредь? – виновато улыбнулся Яков Васильевич. – Спасибо, сынок, за хлопоты! И смех и слезы с нами, стариками…
– Не за что. Глядишь, и мне в старости зачтется?
– В городе с этим проще.
– С туалетом – да, а немощь старческая везде одинакова. Не зря «непостыдной кончины» у Господа просим.
– Это так. А я вот молитв почти никаких не помню. Учил в детстве. Только потом не до них стало. Отвернуло правительство наш народ от церкви. Религию обозвали опиумом для народа, пережитком темного прошлого, мракобесием. Многие у нас и до революции не дюже религиозными были. В церкву, конешно, ходили по выходным все, штоб от других не отделяться. В церковно-приходской школе обучались. Иконы в каждом доме висели. Перед едой крестились. Но истовых христиан, таких, штоб все разумели и соблюдали, было меньше, чем оглашенных.
– Каких-каких?
– Оглашенных. Ну, этих, которых покрестили, назвали православными. А потом они про Христа особо и не думали, только кресты носили. А при Советах и те сняли.
– Хорошее слово, но забытое.
– За ненадобностью и не пользовали. Нет верующих, нет и оглашенных. А в начале века это слово на слуху было, как нонешнее «формализм». Начальство любит этим словцом козырнуть. Стало быть, без содержания, пустой. Вот и у нас таких «пустых» немало среди местных жителей нашлось. Иначе откуда взяться погромщикам церквей, сжигателям икон и святых писаний, утеснителям батюшек и верующих? Не с городу же всех понавезли? Наши, тутошние. Из города только лектор приезжал. Продолдонил свое про «опиум для народа», раздал книжицы Емельяна Ярославского активистам и уехал. А местные долдоны и рады покуролесить. Попов хаяли. Измывались над прихожанами. На иконы плевали да в костер их кидали. Кресты рушили. Только самые истовые христиане их и пытались усовестить, больше старухи да старики. А обчество стерпело, смолчало. Вместо икон плакаты по красным углам развесили – Марса, Ленина, Троцкого. В тридцатые годы Троцкого на Сталина поменяли.
– Ты Карла Маркса имел в виду?
– Кого же еще? Его так, то ли в шутку, то ли всерьез, станичники называли. Нам все одно, што до Бога, што до Марса, одинаково далеко было. До войны.
– А в войну что же, опять оглашенными стали?
– Нет, не оглашенными. Скорее не внешняя сторона веры обозначилась, а внутренняя. Иконки с собой не брали, как в Первую мировую. Многие и крестиков не имели. Но душой к Богу потянулись за надеждой на спасение. Поначалу стеснялись перекреститься перед боем. Все больше про себя молитвы шептали. Кто-то знал молитвы, кто-то отсебятину лепил. Я когда «Отче наш» успевал прочесть, а когда и просто: «Боже, спаси и помилуй!» А потом и командиры наши про Господа вспомнили. Тоже крестным знамением осенялись и нас поднимали в атаку под огнем врага часто не уставными командами, а христианским кличем: «С Богом, братья, вперед!»