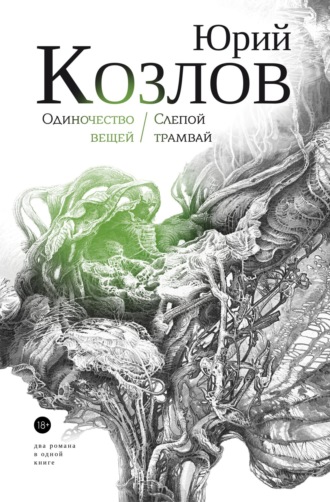
Полная версия
Одиночество вещей. Слепой трамвай. Том 1.
Леон вышел.
У окна ждал парень. На сей раз он шел вторым. Повязки на его руках за это время сделались значительно тоньше.
– Чего придурок лепит? – поинтересовался парень.
– Лепит, что самоубийство – трусость. Особенно для мужика. Если, конечно, не гомосек и не схватил СПИД, – честно передал Леон.
– Ага, трусость! – разозлился парень. – Попробовал бы сам, козел!
– Ты как? – шепотом поинтересовался Леон.
– Не видишь, что ли? – усмехнулся парень. – Вены резал. Левую путем развалил, а правую… – махнул забинтованной рукой. – Как ее разделать, если левая рука уже не действует? Эта вена, – брезгливо продолжил парень, – она такая синяя, как червяк, скользкая, падла! Я и так, и так… Одно понял: надо быстрее сечь, пока руки слушаются.
– Что ему говоришь? – кивнул Леон на дверь ординаторской.
– Понятно что, – пожал плечами парень, – баловался с бритвой.
– Опасной? – зачем-то уточнил Леон.
– Ага, если бы опасной или скальпелем, – хмыкнул парень, – зубами бы догрыз. Дурак я, лезвием «Нева»! Тупой черной совковой сволочью!
Тут из ординаторской вышел психиатр, и они замолчали.
Леону было смертельно скучно в больнице.
Через пару дней он отправился на поиски бритвенного парня, но обнаружил того выписывающимся, бранящимся с санитаркой из-за пропавшего полотенца. «Тот солдат тоже говорил, что не брал, – бубнила санитарка, – а сам пять штук на портянки!»
Парень был не радостен, не грустен, но спокоен. Что-то даже насвистывал себе под нос. Марсианская синева на его лице несколько разбавилась. Теперь обескровленное лицо парня было цвета голубоватой раковины, какие в последние годы потеснили в квартирах и учреждениях неизменные белые.
– Больше не вызывал? – спросил Леон, лишь бы что-нибудь спросить.
Он давно уяснил: самые достойные люди те, кто не ищет общения с другими, а если случается в силу обстоятельств познакомиться, совершенно не стремятся к продолжению знакомства. Бритвенный парень был именно таким. Не он пришел к Леону. Леон пришел к нему. Леон крайне редко по собственной воле ходил к кому бы то ни было.
– Ящик, что ли, не смотришь? – спросил парень. – Вчера по Москве передали: взяли дядю, который душил малолеток.
– Вот как?
– А ты думал, – усмехнулся парень, – ему и впрямь интересно: самоубийство или несчастный случай? Плевать он хотел! По милицейской линии разнарядка: проверить всех, кто на себя покушался, может, кто из них? Ладно, мне пора, – вскинул на плечо сумку, пошел к лестнице.
Леон остался на месте. Бежать за парнем он не собирался. Пусть даже тот очень достойный человек.
Леону стало грустно. Ему всегда становилось грустно, когда он чего-то не понимал, но понимал, что это «что-то» вровень или выше, но никак не ниже его понимания или непонимания. Ему казалось, они с бритвенным вроде как братья по несостоявшейся смерти, какие-то в мнимом этом братстве прозревал Леон объединительные бездны, а бритвенный, похоже, не придавал этому ни малейшего значения.
Леон смотрел парню вслед и не мог отделаться от мысли, что парень знает что-то такое, что Леону бы тоже не худо знать, но вот парень уходит, и теперь Леон ни в жизнь не узнает. Если, конечно, не принимать за это сообщение, что совковым лезвием «Нева» вены не вскрыть. Миновав пролет, парень остановился.
– Эй! – крикнул не оглядываясь. – Еще стоишь?
– Ухожу, – ответил Леон.
– Если ты хотел покончить с собой, – обернулся парень, – а у тебя ни хрена не вышло, это не означает, что, когда ты выйдешь из больницы и тебя вдруг кинутся убивать, ты будешь благодарен этим людям, – и – мягкий топот кроссовок по каменным скорбным ступенькам.
А вскоре и самого Леона выписали из больницы, перевели на амбулаторный режим.
Все эти дни, сидючи ли дома за книгой, насекомьи ли выставясь из окна в пятнисто-мозаичный двор, в поликлинике ли, в так называемой чистой перевязочной, где медсестра, поджав губы, вместе с кровавой коркой отрывала от головы присохшие тампоны, Леон частенько вспоминал слова парня.
Едва только выйдя из больницы на залитый солнцем теплый асфальт, он подумал, что было бы очень неплохо, если бы кто-нибудь прямо сейчас убил его. Только кому он был нужен – шатающийся дистрофик с изуродованным лицом, с головой в бинтах, как в чалме или в шлеме пилота? Недолетевшего до цели пилота?
Но когда Леон выбрался на улицу во второй, в третий раз, ему уже не очень хотелось, чтобы его убивали. А еще через несколько дней он развил, дополнил мудрейшую, как ему открылось, мысль парня: «Если ты хотел покончить с собой, а у тебя ни хрена не вышло, это не означает, что, когда ты выйдешь из больницы, тебе снова захочется покончить с собой». Леон понял, что выздоровел. Больше он не будет пытаться покончить с собой.
В своей комнате в книжном шкафу Леон обнаружил цветную фотографию класса, сделанную в этом учебном году. Долго всматривался в маленькие, как гривенники, лица, с трудом вспоминая, как кого зовут. Единственная царская золотая пятерка живо поблескивала в затертом тусклом ряду. Но и до Кати Хабло Леону дела не было. О чем с ней говорить? Его более не интересовали ни будущее, ни судебный (от слова судьба) ход планет.
Как, впрочем, и все остальное.
Образовалась пауза, годная разве лишь на то, чтобы шлифовать до евангельского совершенства проклятую мысль, от которой Леон избавился. А отшлифовав, убедиться, что и она никуда не годится. Леону открылось, что, пока мысль жива, она не нуждается в шлифовке. С утратившей же жизнь мыслью можно делать все что угодно.
Мать читала лекции в издыхающем обществе «Знание».
Отъезд, естественно, пришлось перенести.
Отец пытался починить машину, а когда не пытался, челночил по городу в поисках водки.
Водка с трудом, но собиралась. Все разных сортов, как если бы отец был настоящим водочным гурманом. Или хватающим что попадется алкашом. Истина, как всегда, находилась посередине.
Пузатенькая польская «Житна». Длинношеяя «Пшеничная», почему-то ашхабадского ликеро-водочного завода с верблюдом в кружочке. Забытая партийная семисотпятидесятиграммовая «Посольская», зябко укутанная в белую шуршащую бумагу. Пяток реликтовых четвертинок «Российской» в синеватых – с пузырьками – бутылках.
Отец, как заботливый старшина, ежевечерне пересчитывал по головам формирующееся в рюкзаке на кухне водочное ополчение. «С таким рюкзачком мы нигде в России не пропадем!» – без конца повторял он и радостно потирал руки.
Мать и Леон устали выражать восхищение водкособирательной энергией отца. В многотрудном этом деле он явил энергию, достойную Минина и Пожарского.
В магазинах не было ничего. Разумно было бы озаботиться и съестными продуктами. Но отец всякий раз приносил… водку. «Когда нечего купить, тянет на водку», – сокрушался он. «Ты, Ваня, больше по магазинам не ходи, – поморщилась мать, – жратву я сама добуду».
В воскресенье вечером накануне отъезда Леон заглянул в кухню.
Отец сидел на стуле. На полу перед ним раскрытый рюкзак с бутылками. Отец доставал по одной, лучисто смотрел, опускал обратно, награждая снисходительными шлепками по крепким стеклянным задам.
– Собираюсь, – отец смутился, поскучнел, как обычно смущается и скучнеет человек, когда его отвлекают от интересного, требующего сосредоточенного одиночества дела.
– Где маленькие достал? – подбодрил его Леон.
– У грузчиков в гастрономе, – оживился отец. – Вот ведь какое дело, – испытующе посмотрел на Леона, – идет к тому, что это будут единственные на Руси деньги. Жидкие купюры. Изначально все заложено. Грамм – копейка, рубль, червонец, да хоть тысяча. В зависимости от инфляции. Вот эти, – кивнул на четвертинки, – готовые двадцатипятирублевки. Эта, – приподнял польскую «Житну», – полусотенная. Ну а эта красавица, – трепетно прикоснулся к шуршащему платьицу «Посольской», – трехчетвертная. Семидесятипятирублевка. В сущности, никаких других денег в оставшееся для России время уже не понадобится.
– А литровую? – поинтересовался Леон. – Отчего не ввести сторублевку?
– Непредсказуемая купюра, – быстро отозвался отец, и Леон понял, что он над этим думал, – может вытеснить и обесценить все остальные. Тяжеловата в употреблении. Нет, сторублевку не потянем.
Тут ввалилась полумертвая от стояния в очередях мать. Как робот, прошагала на кухню, поставила сумки на пол, со стоном села на табуретку, опустив голову и руки.
Леон смотрел на ее русые локоны, широкоскулое лицо, голубые, но сейчас бесцветные от усталости глаза и думал, что мать – самый что ни на есть народ. В очередях, где она сегодня весь день стояла, никому и в голову не могло прийти, что эта женщина – преподаватель научного коммунизма.
Если раньше коммунистичность матери носила во многом служебно-внешний характер – в аудиториях, на партсобраниях, семинарах, ноябрьских и майских демонстрациях, единых политднях и т. д., – сейчас сделалась затаенно-внутренней, идущей от сердца, превратилась в тот самый праздник, который, по утверждению Хемингуэя, всегда с тобой. Главным образом, конечно, в очередях.
Это свидетельствовало, что народ, плоть от плоти которого была мать, ненавидящий коммунистов народ, тем не менее носил в сердце коммунистичность, выражающуюся хотя бы в том, что предпочитал оставаться с праздником очередей, но не трудиться. Народ ненавидел коммунистов по-коммунистически. То есть в лучшем (для коммунистов) случае хотел отобрать у них добро (как это в свое время проделали с народом сами коммунисты), в худшем – истребить всех коммунистов (как те, когда были в силе, истребляли народ). Получалось, что народ коммуни-стичен, а коммунизм народен. Леону казалось странным, что бесспорные эти мысли не приходят в голову нынешним теоретикам. А если приходят, они почему-то об этом молчат. Стало быть, все, что сейчас происходило, всего лишь обольщало душу народа, в действительности же (как и всякое обольщение) шло против его сердца. Неужто, упорствуя в коммунизме, отец и мать не отрывались от народа?
– На первое время еды хватит, – кивнула на сумки мать. – Потом отец еще подвезет.
Отец засуетился, растащил сумки по углам, выдернул из рюкзака «Посольскую».
– Единственная радость, – достал из холодильника колбасу, банку шпрот, поставил на стол стаканы. – Единственная пока еще доступная и пока еще радость. Особенно после дня в очередях.
– Ты же хотел с собой, – в безнадежном, как зола, взгляде матери мелькнула искорка жизни.
– «Посольскую»? В Зайцы? – воскликнул отец. – Не поймут! К тому же Петя отныне трезвенник!
Они выпили, закусили, повеселели. Отец расправил плечи. У матери заблестели глаза, на щеках заиграл румянец. Она сделалась очень даже симпатичной. И усталость как рукой сняло.
Жизнь, еще мгновение назад ненавистная нынешняя жизнь, вновь показалась родителям достойной обсуждения.
Впрочем, обсуждение оказалось кратким. Ибо все у родителей было давно обговорено: и про обольщение народа, и про верные коммунизму сердца.
Выпили по второй.
– Сволочи! Э, да что говорить! – махнул рукой отец, предложил по третьей.
Мать отказалась и ему не позволила. Отцу и Леону завтра ехать на неисправной машине.
Родители ушли из кухни. Их веселые голоса доносились из прихожей. Они никак не могли отыскать резиновые сапоги, без которых Леон пропадет в Зайцах.
Леон плеснул себе «Посольской».
В общем-то, ему не хотелось, но он не мог забыть, как только что преобразились на его глазах усталые и опустошенные родители. И Леону захотелось преобразиться. В момент, когда наливал, правый глаз стал видеть по-насекомьи. Бутылка предстала голубой мозаичной рыбой, вставшей на хвост. Водка в стакане претерпела спектральное разложение. То ли жидкую радугу, то ли пылающий ацетон проглотил Леон, чудом не пронеся теряющий форму, плавящийся в руке стакан мимо стрекозьего рта.
Обычно, когда картинка в правом глазу распадалась, наполнялась дробным свинцовым ветром, Леон попросту прикрывал правый глаз, предпочитая насекомьему видению темноту. А тут, хлебнув «Посольской», заев колбасой, исполнившись сил и уверенности, прикрыл левый человечий глаз и полетел, пополз, поскакал по изменившейся квартире, как оса, муравей или кузнечик.
Леона выручало то, что практически каждый человек с нормальными рефлексами может однажды пройтись по собственной квартире с закрытыми глазами без особого риска что-то разбить или на что-то налететь. Вытянув вперед руки (лапки?), Леон отважно ступил в дробящийся, мозаично-жидкий, как бы разноцветно текущий в берегах-стенах коридор.
Мать с отцом к этому времени отыскали в прихожей один сапог и сейчас увлеченно спорили, где может быть второй. Леон не горел желанием принять участие в поисках, поэтому завернул в родительскую спальню, где на стене висел знаменитый ковер с белыми профилями классиков марксизма-ленинизма.
Сейчас, впрочем, ковер более напоминал экран компьютера, на котором шла многосложная электронная игра. Профили замесились на экране в ком из теста. Он ежесекундно менял форму, словно неведомый игрок собирался что-то из него вылепить, да только никак не мог решить, что именно.
Леону прискучило прихотливое мелькание. Он решил поменять глаза, перейти в человечий зрительный режим.
Но вдруг белый ком на экране-ковре четко и окончательно превратился в профиль (посмертную маску), в котором Леон с изумлением узнал… собственное лицо, каким оно станет, если он доживет до глубокой старости. Проклятая же мысль бритвенного парня, которую Леон столько времени шлифовал и наконец отшлифовал до евангельского совершенства, вдруг зажила собственной жизнью, побежала белыми буквами по ковру, как некогда другая мысль буквами огненными по мрамору Валтасарова дворца в Вавилоне: «Если ты хотел покончить с собой, но у тебя не вышло и ты выбрался из больницы живой, тебе все равно не жить, потому что убьем тебя мы!»
Это другая мысль, успел подумать Леон, как по ковру пробежало, угасая, продолжение: «Если хочешь, чтоб мир был твой, присоединяйся!» Тут же профилей на ковре стало пять. Последний – старческий Леонов.
В правом глазу дернулось, он стал вновь видеть по-человечьи. Но Леон не обрадовался возвращению. Его не оставляло чувство, что с человечьего мира уже снята посмертная гипсовая маска.
Выехали из Москвы ранним утром, которое провели в очереди за бензином. Так что уже и не ранним, а просто утром.
Первый раз машина заглохла на Ленинградском проспекте. Затем периодически глохла в самые неподходящие моменты (во время обгона), в самых неподходящих (на перекрестках, когда давали зеленый свет) местах. Лишь высочайшим классом других водителей, а скорее всего, случайностью можно объяснить тот факт, что в них никто не врезался.
Дергающаяся, пунктирная, с руганью езда продолжалась до автострады Москва – Рига, которую немецкая строительная фирма «Вритген» довела пока только до Волоколамска.
На автостраде заглушка чудесным образом прекратилась. Сто с лишним километров пролетели с ветерком. Отец приободрился, стал мечтать, как они сегодня с дядей Петей тяпнут за ужином водочки под копченого угорька. Дядя Петя отписал, что в озере, на берегу которого стоит его дом, тьма угрей и судаков. Леон пожалел отца, мечты которого в последнее время свелись к водке и еде, еде и водке. Стоило миновать Волоколамск, на узком в выбоинах, как будто его расстреливали с самолетов, шоссе беспечальная езда закончилась.
Они как раз затесались в колонну автобусов, везущих детей в пионерский лагерь. Пару раз отцу удавалось запускать заглохший двигатель на ходу, так что только падала скорость и автобусы сзади возмущенно сигналили. В третий раз пришлось мертво встать посреди шоссе, скатиться на обочину не удалось, так как именно в этом месте шоссе было ограждено высоким бордюром.
Неловко так получилось.
Вставшие автобусы гудели, как библейские иерихонские трубы. Потом стали объезжать, и каждый проплывающий водитель лаял сверху из кабины. Первым отец вяло отвечал, затем угрюмо смолк, подняв стекло, как воротник на пальто. Водитель последнего автобуса даже ничего и не пролаял, просто брезгливо посмотрел на набычившегося за рулем отца, как на живую кучу навоза.
– Так дальше ехать нельзя! – воскликнул отец, долбанул кулаком по рулю.
Тишину пустого шоссе нарушил жалобный, как крик подстреленной цапли, звук сигнала. Ужин с водочкой и копченым угорьком становился проблематичным. Не в смысле водки, которая была с собой, а в смысле копченого угорька, до которого надо было доехать. Леон удивился, что отец так поздно уяснил, что так дальше ехать нельзя.
– Но тогда как? – прорычал отец.
– С исправным двигателем, – сказал Леон.
– С исправным двигателем не получается, – спокойно ответил отец. – Никак не получается. Хоть умри.
Леон чуть было не поинтересовался: а, собственно, почему? Но удержался, так как вступать в разговор на эту тему значило торить дорогу в безумие, повторять зады только что прослушанных по радио новостей экономики. В магазинах пусто, а на складах и в неразгруженных (почему?) вагонах гниют продукты. Свое зерно под снег, чужое за золото. Нет бутылок, а их, оказывается, миллионами крушат на пустырях бульдозерами. Экономическая (и прочая) жизнь в стране была иррациональна. Все тропинки, дороги, сработанные немцами автострады вели не в Рим, но в безумие. Сбиться с пути было попросту невозможно.
Отец сам был сеятелем иррационального – преподавал научный коммунизм. Но почему-то раздражался, когда иррациональное прорастало из теории в практику повседневного существования. Отец предпочитал, чтобы урожай собирали другие.
Кое-как на второй передаче (почему-то в этом режиме двигатель меньше глохнул) добрались до ближайшей бензоколонки.
– Это невозможно! – отец ткнул пальцем в красную мигающую точку на приборе, свидетельствующую, что бензин на исходе. – Мы в Москве залили полный бак, а проехали меньше двухсот километров. Как же так?
Судорожно дернувшись, машина (на второй передаче) стала напротив кирпичной будки, из окна-бойницы которой, как некормленая рыба из аквариума, смотрела хозяйка бензоколонки.
Отец выскочил из машины, хлопнув дверью.
Леон тоже решил размяться. Вышел и чуть не упал, так стремительно бросилась под ноги мозаично расчлененная насекомья земля. Но взгляд выправился, вынырнул, как самолет из штопора. Леон устоял, схватившись за дверцу.
Отец тем временем приблизился к окошку. Там имелась небольшая витринка с запчастями.
– Не все безнадежно в стране, – удовлетворенно произнес отец, – рынок работает. Запчастей как в Америке. Все куплю! Дядя Петя перебьется, вернусь, пошлю деньги по почте. Всего двести километров от Москвы, чудеса!
– Ты там внизу читай! Купит он! Ишь ты, купщик! – хрюкнула хозяйка.
– Ничего, – улыбнулся провинциальной ее наивности отец, – переплата меня не пугает.
– Там все расписано, – улыбнулась столичной его наивности хозяйка. – Читай, мужичок!
– Только для сдатчиков сельхозпродукции, пайщиков потребкооперации, – прочитал отец. – Аккумулятор (СФРЮ) – сто килограммов шерсти-сырца. Свечи зажигания (ФРГ) – двадцать килограммов… чего?.. бычьих семенников. Генератор (НРБ) – шкуры коровьи, принимаем собачьи, сырые, пять, собачьи пятнадцать штук. Тромблер (Италия) – тыквы, одна тонна. Сволочи! – крикнул отец.
– Да будь просто за деньги, – довольно хмыкнула хозяйка, – тут бы очередь от самого Ржева стояла. Ну, насмешил, мужичок!
Леон почувствовал, что в ее власти продать отцу и генератор и аккумулятор, только вот отец не нашел подхода к прихотливому, избалованному сердцу хозяйки. Потому ничего она ему не продает. Еще Леон обратил внимание, что хозяйка – не старая еще женщина. Но близость к дефициту, за который люди готовы на все, убила в ней сострадание к (этому самому, готовому на все) ближнему. Если нет сострадания к ближнему, человеческое (не важно, мужское, женское) лицо превращается в говорящую задницу.
– Ну хоть бензина, красавица, налей, – зловеще и спокойно произнес отец.
Леону не понравилось, как он сказал. Так, наверное, разговаривал перешедший Рубикон Юлий Цезарь. Лютер, очнувшийся на горе после удара молнии.
– Двадцать литров налью, – с сожалением ответила хозяйка. – Больше не положено, у меня полторы тонны на сутки. – Но встретившись глазами с отцом, быстро передумала. – Могу, конечно, и сорок.
Леон испугался: неужели отец сейчас чиркнет спичкой и сожжет, как в американском фильме, бензоколонку?
– И канистру? – слова отца звучали как приказ.
– И канистру, – как эхо, отозвалась хозяйка.
Леон перевел дух. Он не подозревал в отце способностей в духе Кати Хабло. Сейчас отец вполне мог приобрести за наличные и генератор, и аккумулятор, и тромблер. Но открывшаяся в водах Рубикона, ослепительном свете Лютеровой молнии истина была столь значительна, что не предполагала размена на мелкие личные выгоды. Подразумевался иной – куда более крупный – выигрыш. Хотя, если вдуматься, мог ли быть для советского автолюбителя выигрыш крупнее, чем аккумулятор, генератор и прочее? Стало быть, отец собирался выигрывать не как автолюбитель.
Леону только оставалось надеяться, что он знает, что делает.
– Какой тут ближайший город? – строго спросил отец.
– Нелидово, – испуганно выдохнула хозяйка.
– Сколько километров?
– Пятнадцать. Через два километра поворот направо, там указатель.
– В Нелидово есть станция техобслуживания?
– Улица Ленина, шесть.
Расплатившись, отец залил бак и канистру, сел за руль, тяжелой рукой повернул ключ зажигания. Машина немедленно завелась и не смела глохнуть, пока выезжали с бензоколонки, ехали по шоссе до поворота на неведомое Нелидово, и после поворота держалась молодцом.
Как будто внезапно обретенная отцом власть над действительностью распространялась на неодушевленные предметы, к каким относилась машина.
Как будто в закручивающемся над страной смерче хаоса отец прозрел некий стержень, взявшись за который можно было, подобно Богу, усмирить смерч. Углядел звено, ухватив которое можно было вытащить из ревущего, взбесившегося дерьма всю цепь.
Отец, уверенно ведущий ревущую на второй передаче, как это самое дерьмо, машину, объяснил, что это за стержень, что за цепь.
– Сволочи! – сказал отец. – Они забыли, кто в этой стране хозяева, сволочи!
Леон с интересом посмотрел на отца. Насекомий глаз дрянно подшутил: волевое отцовское лицо вдруг сделалось нематериальным, как призрачные профили на вишневом ковре. «Они хозяева? – удивился Леон. – Опять?»
И все равно любо было смотреть на подтянувшегося, посуровевшего, обретшего под ногами почву отца. Двухдневная его щетина, наводившая прежде на мысль о некоей деградации, сейчас выглядела победительно и мужественно, как на лице солдата, который сидел в окопе, стрелял в неприятеля, и, следовательно, не было у него времени побриться черным совковым лезвием «Нева».
Только вот источник, откуда отец черпал живую силу, был мертв, и охраняли его привидения.
Леон подумал, что слишком уж дробно-подробными сделались его мысли. И бессмысленными, как рассыпающаяся по стеклу дробь. Заключенная в патрон дробь стреляет, хоть и не всегда. Рассыпающаяся по стеклу – никогда. Леон рассыпал свою дробь. Отец свою собрал в патрон. А побеждает всегда тот, у кого дробь в патроне.
– Все, что сейчас происходит в стране, – мерзость! – с невыразимым отвращением произнес отец. – Подлейшая, вреднейшая чушь! И исправлять надо, как умеем! И лучше всего – как умеем лучше всего! Только так. Иначе… – недоговорил, настолько непереносимым было «иначе», злобно, как в прицел, сощурился, стиснул зубы.
А между тем уже бежал вдоль дороги в зелени травы и деревьев, в безлюдье и запустении деревянный город Нелидово.
И встали на пустынной, залитой солнцем центральной площади, в середине которой, как и положено, помещался приземистый остроплечий идол в блатном кепарике на несоразмерном подставце-кубе. Как будто готовили под размером побольше, но в последний момент урезали смету. Потому-то, знать, и казался идолок обиженным и злоумышляющим. Эдаким вздернувшим плечики хулиганом пер на народ, поигрывая в кармане ножичишкой.
За спиной хулигана виднелся трехэтажный, под красным знаменем каменный (бетонный) райком или горком. Впереди – низкий ряд кривых деревянных домов-магазинов, в которых угадывалась вонючая пустота. По правую руку (одесную) – каменный (кирпичный), вымоченный дождями, иссеченный вьюгами, недоразрушенный храм-скелет с переплетенной, завязанной в узлы арматурой вместо куполов. В узлах густо расположились грачи и вороны – последние, по всей видимости, православные существа на Руси.
Нелидово не производило впечатление места, где можно приятно провести время: отдохнуть, пообедать, погулять, осмотреть достопримечательности, купить в дорогу продуктов (вообще что-нибудь купить), в особенности же починить машину. Хотя какие-то машины нет-нет да и проскакивали по площади.




