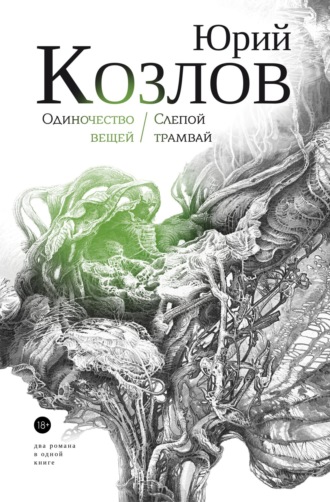
Полная версия
Одиночество вещей. Слепой трамвай. Том 1.
Отец взошел на трибуну, сумрачно вперился в угасающе шлепающий ладонями зал.
– Тут у меня листки, – отец, к изумлению Леона, потряс в воздухе коричнево-желтыми, сухими, как осенние листья, квитанциями со станции техобслуживания. – Набросал, как положено, тезисы перед выступлением, – гипнотически обвел зал круглыми совиными глазами. – А потом подумал: а зачем, собственно, как положено, кем положено, когда положено? Хе-хе… – картаво, как алтарный Ильич, если бы он вдруг выпростался из кумача, рассмеялся. – Вот я сейчас их! – торжественно, как фокусник, вознамерившийся извлечь за уши из цилиндра кролика, поднял руки с листками вверх и… спохватившись, что, если и впрямь разорвет, на станции потом ничего не докажешь, скомкал листки, быстро спрятал в карман, предъявив напряженной аудитории пустые руки. – Что мне в коммунистах Нелидова? – с горчинкой в голосе продолжил отец. – И что коммунистам Нелидова во мне, незваном госте? Мне не привыкать излагать расхожие прописные истины. Вам не привыкать слушать заезжих ораторов, думаю, немало их тут перебывало. Не лучше ли употребить случайную нашу встречу, – вдруг гладенькой скороговоркой, как покушающийся на интеллигентность бонвиван в безнадежном разговоре с девушкой, произнес отец, чудом выпустив слово «мадемуазель», – для определения истины в конечной инстанции, если, конечно, таковая существует. Не конечная инстанция, естественно, а истина. О, она сродни тайному разветвляющемуся подземному ходу, – шелестяще прошептал отец, – раздвоенному змеиному жалу.
Леону было не отделаться от ощущения, что отец, привычно долбанув водяры, заев бесформенным, как сдувшийся дирижабль, магазинным огурцом, излагает все это на кухне матери и друзьям-сослуживцам. Только на сей раз кухня сильно раздалась вширь и ввысь, из кумачей снисходительно посматривал гипсовый шеф-повар, матери не было, а вот друзей-сослуживцев (поварят) прибавилось.
– Я! – Леон вздрогнул: на кухне отец не смел истеричничать. – Я, Иван Леонтьев, русский, коммунист с августа тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, доктор философских наук, автор книг и учебников, кавалер трех орденов и четырех медалей, лично знакомый с Жоржем Марше и Фиделем Кастро, не говорю о нашей бывшей партийной номенклатуре, хочу впервые в жизни, подчеркиваю, впервые в жизни, совершенно откровенно, как пред Господом Богом, которого нет, здесь, в Нелидове, поделиться своими мыслями с вами, незнакомыми, неведомыми мне людьми!
В зале послышался недоуменный ропот.
– А вы, – подобно Демосфену, взметнул руку отец, – вольны, если вам не понравятся мои мысли, стянуть меня с трибуны, вышвырнуть вон!
На это сомнительное, хоть и демократичное, предложение зал откликнулся бурными аплодисментами.
– Откуда, – спросил отец, надо думать, не сильно ими ободренный, – поползла смута, ввергнувшая нас в экономическую и национальную катастрофу? Извне? У меня нет иллюзий насчет Запада, но смута пришла к нам не оттуда. Тоска по иному качеству жизни, да, имела место, но у нас были возможности, благодаря поездкам, а также нашим специальным магазинам, отчасти утолять эту тоску, разве не так? Изнутри? Нет. Хозяйство функционировало в общем-то исправно, государственная машина, хоть и нуждалась в определенном усовершенствовании, действовала. На выборы являлись девяносто девять и девять процентов избирателей. Снизу? Нет. Народ был чист и спокоен. Из партии люди выходили исключительно со смертью. Единственная критика, которую позволяла себе наша храбрая интеллигенция: что мало принимают в партию деятелей науки и культуры, писателей и журналистов, отдают почему-то предпочтение рабочим, хотя интеллигенты не менее верны. Случаи массового неповиновения властям были единичны и не носили осмысленного политического характера. А как же диссиденты? – спросите вы. Не будем лукавить, товарищи. Даже забавно было иметь в каждом районе своего карманного диссидента, зачастую мы сами создавали их, чтобы народ держался бодрее, не терял бдительности, не только теснее (куда теснее?), а и веселее сплачивался вокруг партии. Вы помните, как наши прекрасные советские люди по первому намеку ломали им заборы, били стекла, писали матерные письма, вытаптывали огороды. Как наши честные, любящие партию продавщицы обвешивали и обсчитывали их в магазинах, им же за то хамили, плевали в харю, после чего мы сажали диссидентов на пятнадцать суток, а то и на три года за хулиганство или за распространение венерических заболеваний, какому секретарю райкома какая статья нравилась. Как наши добрые ангелы-медсестры вкалывали им хинин под видом успокоительного, и эти диссиденты, выйдя из больницы, падали без чувств, и тут уже было налицо нарушение общественной нравственности – пьяная наркоманическая скотина валяется без чувств возле больницы, где ходят дети, опять можно сажать в тюрьму, запирать в сумасшедший дом. Как пожарники опечатывали их поганые жилища, а стоило им сломать сургуч, их тащили в суд, выписывали штраф за нарушение правил противопожарной безопасности. Как их морили в карцерах и КПЗ вместе с клопами и тараканами, и они потом ползали по карцерам и КПЗ, как эти самые недомеренные клопы и тараканы. Ха-ха-ха… – зловеще, в тишине и одиночестве, рассмеялся отец. – А пионеры, наши славные Павлики Морозовы, бросали им в очко сортира дрожжи, и дерьмо сносило диссидентские сортиры, как праведный гнев советского народа-богатыря. Нет, друзья, смута пришла к нам не снизу. Народ нам верил до последнего. Вспомните, как он встрепенулся на андроповские новации. Сколько писем, доносов, сигналов сразу хлынуло во все адреса, как укрепилась дисциплина на предприятиях, выросла производительность труда. Яснее народ не мог выразить, чего он ждет от партии, но мы позволили пропасть народному порыву втуне. Так откуда же пришла к нам смута? – по примеру античных ораторов отец завершил вводную часть повторением коренного вопроса, сообщая речи тем самым широчайший разлив, как бы помещая слушающих в Ноев ковчег. Им ничего не оставалось, кроме как внимать из ковчега отцу, парящему над библейскими словесными водами ястребом, но не голубем.
– Мне горько об этом говорить, но порча пришла к нам сверху, то есть от самих себя! – он вновь вскинул вверх руку, но на сей раз пружинно, динамично, как бы подавляя возможные возражения из зала, которых, впрочем, не последовало. Тих, смущен был зал, как тих и смущен бывает человек, впервые в жизни явившийся узнать судьбу к колдуну или астрологу. – Кто, – вкрадчиво спросил отец, – погуливал цветущими пряными южными ночами вдоль шумного моря на огороженной охраняемой даче, доверительно говорил собеседнику, что так дальше жить нельзя? И собеседник с соседней дачи согласно кивал. А в санатории поблизости, тоже огороженном, тоже охраняемом, много было таких, кто искренне считал, что нужно так, как есть? Единицы. Их держали за ортодоксов, выживших из ума маразматиков, не принимали в расчет. Но спустимся пониже, на наш, так сказать, срединный уровень. В баньках, под водочку, под пивцо, на рыбалках-охотах вечером у костерка кто из нас не заводил привычную шарманку, что дальше так нельзя, и все наши споры были о том, до какой степени нельзя и как именно валить: обвалом или постепенно, медленным отступом? Эта мысль змеей, – образ змеи определенно сейчас доминировал у отца, потеснив мразь, – вползла к нам в головы, свила там гнездо. Змеиное гнездо! – зачем-то торжествующе и гневно уточнил отец, как будто змея могла свить какое-то иное. – Позволить угнездиться в голове подобной мысли – все равно что заболеть СПИДом! Когда власть начинает сомневаться в своем праве контролировать действительность, она перестает быть властью! – отец вколотил неожиданно родившийся из пены слов тезис в тишину зала, как сверкающий на солнце гвоздь в сухую доску.
Леон обратил внимание, что многие, в особенности почему-то женщины, усердно конспектируют. А кто не конспектирует (видимо, за неимением блокнотов), смотрит на конспектирующих с завистью.
– И завершая затянувшееся вступление… – отец выдержал паузу. – Не волнуйтесь, дальше пойдет быстро, как по маслу, которое вскоре исчезнет.
Зал оживился: «Уже исчезло!»
В оживившийся от исчезновения масла зал отец послал второй гвоздь-тезис, скрепляющий сказанное намертво:
– Мы, власть предержащие, окончательно и бесповоротно утвердились в мысли, что дальше так жить нельзя, в то самое время, когда народ окончательно и бесповоротно утвердился в мысли, что так жить можно, более того, только так жить и нужно! Вот, если коротко, суть трагедии.
Зал загудел: «А Чернобыль? А пшеница за золото? Куда делись нефтяные миллиарды? Чурбановщина! Адыловщина!» И зааплодировал. Аплодисменты пересиливали. Громче всех, стоя, аплодировал широкоплечий, стройный молодой подполковник в красных петлицах мотострелка.
Отец подождал, пока в зале стало тихо.
– В мире нет ничего более неправдоподобного, чем истина, – произнес мягко и увещевательно. – Истина, в отличие от закона, имеет обратную силу. Мы действуем, как будто ее не существует, а потом страшно удивляемся, когда нас судят за то, что мы действовали не по истине. Нас обязательно будут судить.
То была старинная российская мозоль: страх, ожидание репрессий неизвестно (или известно) за что. Отцу не следовало на нее наступать. Люди имеют обыкновение злиться не на мозоль, а на того, кто наступил.
– Нельзя ли конкретней? Ближе к делу! Что вы имеете в виду? О какой истине говорите? Сформулируйте! Какая тема семинара? От какой вы партии? – закричали из разных рядов.
– Конкретней? – вдруг завопил, выпучив глаза, отец. Старательно конспектировавшая женщина с укладкой, с человеческим, но уже начинающим каменеть лицом (наверное, недавно поступила на работу в райком-горком) испуганно выронила ручку. – Ближе к делу? – усиленному микрофоном отцовскому голосу-ястребу стал тесен актовый зал. – Хорошо, я буду краток. Когда вещь разделяется в себе, она перестает быть полноценной функциональной вещью. Точно так же партия, разделившись в себе, перестала быть властью. А может ли существовать без власти огромное многонациональное государство? Нет, без власти оно обречено на распад и гибель. Посмотрим, по какому же принципу разделилась партия. Добро бы одна часть полагала, что дальше так жить нельзя, а другая – что можно. То был бы спасительный раскол – начало исцеления. Нет, партия разделилась по иному принципу, точнее, совсем не по принципу. Одна часть выступает, чтобы разрушить все до основания. Другая – тоже разрушить, но не до основания, а, скажем, до второго или первого этажа. В главном – разрушить – разногласий нет! Это текучее непринципиальное разделение по принципу сообщающихся сосудов. Люди будут бесконечно перетекать туда-сюда, делая конфликт неразрешимым. Пока вода не зацветет и ее к чертовой матери не выплеснут! Разделение партии гибельно для государства еще и тем, что ни одна из сторон не сумеет окончательно победить, взять всю власть. Но даже если и возьмет в результате какой-нибудь ошеломительной провокации, это ничего не изменит. Почему? Думаю, никому здесь не надо объяснять, что наши противники на самом деле никакие не демократы, а худшая, наиболее циничная, продажная, карьеристская и беспринципная часть партии. Либеральствующие эластичные стукачи, бывшие помощники, спичрайтеры, консультанты, референты, советники, прочая мразь, доедавшая объедки с секретарских столов, готовая написать, доказать, обосновать что угодно. Всех их в свое время поперли с партхлебов. Они затаили злобу. Расставшись с партбилетами, не изменили холуйской сути. Почему же нам не скрутить, не прижучить разбушевавшуюся мразь? Почему мрази окончательно не заморочить людям головы, не истребить нас? Отвечу: потому что и для нас, и для них вся полнота власти при тех идеях, какие мы сейчас исповедуем, гибельна! Взять власть – нам или им, неважно! – значит в считанные месяцы развалить страну! Мы – два кончика одного змеиного языка. Окончательно и бесповоротно сможет победить лишь третья, равно опасная нам и им сила, которая обопрется на фундаментальное, природное, от Бога сидящее в каждом человеке с рождения и до смерти. То есть на те рельсы, по которым человек едет, как поезд, не замечая их. Что это за рельсы? Да вы не хуже меня знаете, тут тайны нет: национальное чувство, инстинкт собственника, затем – с оговорками – религиозность, применительно к нашей стране – вера в очищенное от скверны учение Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина!
Громовое добавление сброшенного с парохода (поезда?) современности Сталина вызвало в зале замешательство. Подполковник-мотострелок горячо зааплодировал. Некто с демократическими усами, в модной джинсовой рубашке выкрикнул: «Позор!»
Отец в ответ улыбнулся так пронзительно и горько, что залу внезапно открылось: отец не сомневается в собственной правоте, но она причиняет ему боль. Таким образом, доверие к нему, как к человеку, не ищущему ни выгоды, ни популярности, то есть фанатику или юродивому, несказанно укрепилось.
– Посмотрим, – продолжил отец, – каков нынче в обществе расклад сил? Расколовшаяся, тонущая в словах власть и пока что помалкивающий народ, тот самый, давно решивший как жить, но за который мы решили, что так жить нельзя. Вероятно, нет необходимости объяснять, что ни мы, ни наши противники не можем опереться на религию, так как за семьдесят с лишним лет церковь превратилась в один из наших государственно-партийных департаментов, коррумпированных и прогнивших ничуть не меньше остальных департаментов. Опираться на церковь, живя среди безрелигиозного народа, смешно и политически наивно. Не разыграть нам и картишку частной собственности, так как и для нас, и для противника настоящая крепкая частная собственность – смерть! И мы, и они можем политически существовать только в условиях распределительной системы, когда на распределении сидят наши люди и распределяют нам и кому мы скажем. Нашему государству еще долго оставаться марксистским.
В марксистском государстве принуждение и распределение есть два источника, две составные части власти. Разве только демократическая, сбросившая, как змея старую шкуру, партбилеты, мразь хапает наглее нас, прет в частнособственнические структуры, не понимая, что будет выброшена, подобно использованному презервативу, как только эти структуры достаточно окрепнут.
Нужда будет в таких, кто может производить, организовывать, генерировать идеи, а не в таких, кто – распределять, воровать, генерировать маразм. Нет ни нам, ни им спасения в национальном. Ибо и мы, и они исповедуем марксизм, а марксизм изначально и прежде всего враждебен любой национальности. Царская Россия, с ее государственными и общественными, основанными на национальных особенностях русского народа, частной собственности, православной религии институтами, одинаково неприемлема для нас и для демократов. Не для того мы ее в свое время уничтожили, чтобы сейчас восстанавливать. Мы что-то нескладно бубним про коммунистическую перспективу. Они хотят по новой освоить страну, как будто это только что открытая Колумбом Америка, куда хлынут деловые предприимчивые люди и все вмиг переустроят, перебив для начала путающихся под ногами туземцев. Нам (по нашей идеологии) нищий злобный негр, коротающий ночи в подземке, готовый за понюх кокаина перерезать пол-Нью-Йорка, согнанный с земли араб с автоматом, хрипящий рикша, деклассированный европейский подонок-террорист куда милее своего русского – рабочего ли, колхозника, запуганного интеллигентика. Негр, араб, рикша, террорист – пусть отрицательно заряженные, но частицы экономически живого мира, в них лютая злоба, энергия нетерпения, они – сухой горючий материал революции, бикфордов шнур дестабилизации так называемого мирового сообщества. В то время как нынешний русачок – чисто наше творение. В нем – равнодушие к собственной участи, генетическая неспособность к действию, терпение на грани смерти. Этот материал намок и смердит, как грязная шерсть под дождем. Он никогда не воспламенится, в лучшем случае погано надымит, в худшем – задушит сырой массой привнесенное извне пламя. И нашим противникам чужд и отвратителен природный русачок. В ненависти к нему они даже последовательнее нас. Они ставят на ничтожнейшего западного посредника-спекулянта, такого же рикшу, террориста на своем социальном уровне, приезжающего сюда, чтобы скупить-украсть последнее. Ему они готовы с потрохами запродать Россию, только бы она не досталась русскому. Неприятие национального – наше родовое, марксистское, тут ни мы, ни они через себя не переступим. Хотя, конечно, возможны исключения, – голос отца вдруг потускнел, сделался усталым и монотонным. – У нас – секретарь райкома, посещающий молебны, тайно ссужающий бумагу патриотической газетке. У них… Рабинович во главе комитета по возрождению русского земства.
Плечи отца оплыли над трибуной, как восковые. Леону вдруг открылось, что невозможно нормальному человеку верить в проклятый марксизм. И одновременно открылось, что невозможность нормальному человеку в него верить есть главная причина ирреальной в него веры ненормальных людей. «Они не люди, – подумал Леон, – они что-то другое».
– И для нас, и для них, – поднял плечи, победил слабость отец, – не существует в мире ничего более опасного, нежели национальная идея в естественном своем развитии, то есть органичное стремление того или иного народа жить нормальной, достойной жизнью. Но что же народ? – спросил отец.
По залу пробежал ветер: да надо ли о народе, нам ли не знать, что он тьфу, ничто!
– Надо, – вздохнул отец. – К сожалению, надо, поскольку это наш единственный и последний строительный материал. Другого не осталось. Был импортный – китайский, восточноевропейский, кубинский – да хреновый попался прораб, сдал налево ни за х…!
Конец фразы утонул в аплодисментах.
– Я буду вынужден повториться, – продолжил отец, и Леон понял, что только мысль о том, как он сладко выпьет и вкусно закусит после лекции, не иначе, поддерживает в нем силы. – Мы предали свой народ. Семьдесят с лишним лет мы перевоспитывали русский и примкнувшие к нему народы в новый – безнациональный, безрелигиозный, бессобственный – народ, готовый жрать стальные танковые гусеницы вместо хлеба, пить ракетное ядерное топливо вместо молока, гордиться, что у нас самая большая, самая вооруженная в мире страна, перед которой трепещет мир. Народ, результаты труда которого не видны. Который, как сухари, сгрызает собственные леса и недра, меняя их на то, что когда-то в изобилии сам выращивал. Которому для счастья не нужно ничего, кроме химической водяры, трупной колбасы да нищенской пенсии, до какой он, как правило, не доживает, так как стал под нашим управлением самым короткоживущим, допенсионным народом в мире. А для гордости – твердой уверенности, что на болотах точно так же давят и мордуют эстонца, на отравленных хлопковых полях – узбека, ну и повсеместно и непременно – старшего русского братана. И вот, когда народ стал таким, как мы хотели, когда мы расширили пределы его терпения практически до бесконечности – лишили его возлюбленной водки, колбасы, хлеба, молока, жилья, транспорта, одежды, роддомов, больниц, лекарств, моргов, чистого воздуха, кладбищ, пригодной для питья воды – всего, чего только можно лишить! – а он знай себе терпит, выстаивает в очередях да ходит на митинги с кумачами: «С Лениным – на тысячи лет!» или без кумачей: «Убийцу-Ульянова из Мавзолея вон!», мы вдруг надменно заявляем своему народу: ты не такой, ты мерзкий, недемократичный, уголовный, спившийся, не умеешь и не хочешь работать, возделывать землю, владеть собственностью, тебе не по уму современная технология, у тебя трясутся с похмелья руки, из-за тебя страна отстала на десятки лет, ты недостоин нас, знать не хотим тебя, ублюдка!
И вновь в зале установилась неправдоподобная тишина. У конспектирующей с начинающим каменеть лицом женщины ручка приросла к блокноту, такими неложащимися на бумагу были отцовские слова. Отцу внимали уже не как пусть парадоксальному, но партийному лектору, а как экстрасенсу, новоявленному психотерапевту, медиуму, впавшему в транс. Только бы не вздумал вызывать дух Ленина, испугался Леон.
– Мы оказались в положении декабристов, – продолжил отец, – то есть страшно далекими от народа. Но с одной поправкой: мы взяли власть! Все семьдесят лет мы жили неизмеримо лучше народа, слаще ели-пили, а в последние двадцать лет еще и поездили по миру, посмотрели, как там. Мы увидели, что наша «хорошая» жизнь – дерьмо в сравнении с той, И мы решили открыто и бодро двинуть себя и народ к новой жизни. Но… народ не пошел! Не принял, подлец, нашей милости. Он бы пошел в лагеря, отвоевывать Польшу, Финляндию и Аляску, построил бы еще один БАМ, осушил Каспийское море, пустил вспять реки, чтобы они затопили города, но… не пошел за нами в трудовой, правовой, изобильный европейский рай. Не отдал родимую очередь за водя-рой, гудящей, как улей, родной завод, где можно ни хрена не работать, сидящий на дотации у государства колхоз, никчемную контору, где десятилетиями миллионы бессмысленно протирают штаны с девяти до шести. У нас закружилась голова от успехов, мы купились на мнимую покорность народа, кажущееся его неучастие в собственной судьбе. А он, мерзавец, переиначил жизнь под нами на свой ублюдочный манер, выкопал, гад, навозную яму, в которой, опившись, подыхает и тянет нас за собой! А мы… – с величайшим изумлением в голосе произнес отец, – не хотим! Мы хотим жить в особняках, пить баночное пиво, ездить на «Мерседесах», отдыхать на Канарских островах! Мы подтянулись в саунах и бассейнах, на теннисных кортах, нам нравятся видеокамеры и доллары, но наш народ, мразь, не может нам этого дать! Да пусть гадина подавится своим Лениным! Его поганые трясущиеся руки изначально враждебны такому тонкому инструменту, как видеокамера! Уже выкачали почти всю нефть, вырубили под корень леса, а долларов все равно не хватает! Да, в перестроечные годы мы увидели истинное лицо своего народа и… ужаснулись. Это лицо дебила, уголовника, вурдалака. Лицо… настоящего коммуниста. Но других народов у нас не осталось, – мрачно подытожил отец, как уронил ведро в колодец. – Конечно, – продолжил, хмыкнув, – не одно поколение марксистов мечтало по-коммунистически править некоммунистическим, трудолюбивым, законопослушным народом. Но это, увы, несбыточная мечта.
Попавшийся народ или погибает, или, обдираясь в кровь, уходит, или же превращается во вполне коммунистический. Мы воспитали самый коммунистический народ в мире. Это прискорбно, горько, негуманно, но если мы не хотим, чтобы народ пожрал нас, как пожрало Франкенштейна созданное им чудовище, мы должны править, удовлетворяя глубинным запросам нашего народа-коммуниста, которые давно определяются и формируются отнюдь не нами на наших бестолковых съездах и пленумах, а им самим, вот что страшно. Народ уже понял, что мы кость в его горле, проходимцы, уставшие от развала и безумия коммунизма, изменники, возмечтавшие жить по-европейски, возжаждавшие сытенького покоя, тогда как народ жаждет голодных кровавых судорог. И я не понимаю, – растерянно произнес отец, – почему народ до сих пор нас терпит? Номинально мы в кабине паровоза, но состав идет в розовеющем тумане своим путем. Скоро хлынет кровь. Мы не можем ни притормозить, ни поддать пару, даже не видим рельсов, по которым идет состав. Разве что всемерно усилить, укрепить госбезопасность. Но, боюсь, поздно. Если мы хотим жить, если нам дорога великая идея, мы должны стать плоть от плоти, кровь от крови народа-коммуниста, – голос отца начал каменеть, как, впрочем, и лицо соседки Леона, твердой рукой возобновившей конспектирование. – Не мы семьдесят лет назад заложили программу в этот компьютер, – гремел отец, – не нам, неучам, следовательно, вносить коррективы. Программа будет доведена до конца! С нами или без нас. Но лучше, конечно, с нами. Компьютерная сеть защищена от всевозможных посягательств. Как бы мы ни лупили по клавиатуре, как бы ни насиловали процессор, нам не переиначить программу. А потому… – выдержал немую оглушительную паузу, выбросил вперед руку, как будто швырнул камень в морду сомневающимся. – Долой сомнения, будь они прокляты!
Зал заревел, зааплодировал, затопал. Они устали от неопределенности, от абстракционистского смешения красок, от не-решения вопросов. Хотелось определенности, хотелось черно-белого, хотелось решать вопросы силой и страхом. Как только и могли эти люди.
Потому-то никакие вопросы в стране не решались.
– Не к тому национальному, о котором завывают недобитые писателишки-почвенники, – переревел зал отец, и Леону сделалось за него страшно, так он набычился, побагровел, так страшно вздулись у него на шее жилы, – не к тихому крестьянскому ладу, чтобы плыть в избе, как в подводной лодке, не к березкам, полям и родительским погостам стремится наш великий народ, а к мировой ядерной державе без России и Латвии, единому человечьему общежитью, где не будет белых и черных, а будут все одинаково смугленькие! Ядерные отходы от производства ракет и атомных электростанций – вот родительские погосты нашего народа! Миллион ракет, могущих уничтожить мир сто семьдесят пять раз, – вот его национальная гордость! Так пусть гордится! Дадим ему ракеты вместо хлеба, жилья, товаров, больниц, книг и загранпаспортов! Вернем Восточную Европу, Аляску, Финляндию, Карс, Ардаган и Афганистан! Тайная страсть нашего смугленького, без России и Латвии, – не подняться до чужого уровня, а опустить остальной мир до себя, мордой в парашу, как смазливенького мальчишку в тюремной камере. Наш великий народ – враг частной собственности. Так избавим его от этой мерзости, все заберем себе! Земля, недра, леса, поля, реки и небеса, заводы и колхозы, музеи и картинные галереи – все, все, все должно принадлежать райкомам, горкомам и обкомам. А можно – мэриям, префектурам, городским управам, плевать, как мы себя назовем! Ну а нефть, хлопок, золото, алмазы – все, что можно продать за доллары, должно принадлежать ЦК и Политбюро, мэрам, президентам, членам Государственной Думы, да хоть посадникам, князьям, боярам, великим каганам! Народу ненавистна религия, взывающая к милосердию. Так пустим народ по храмам, церквам, квартирам этих обзаведшихся видеокамерами и компьютерами гомосексуалистов-священников! У нас должно быть стопроцентное атеистическое государство! Народ не может существовать вне исторической перспективы, сказки о светлом будущем. Это как пучок сена перед мордой голодного злобного ишака, до которого он никогда не доберется, скорее сдохнет. А потому… – отец перевел дух, набрал воздуха, заорал, как будто ему прижгли раскаленной кочергой пятки: – Да здравствует мировая революция! Да здравствует всемирный коммунизм! Партия, или что там вместо нее, торжественно провозглашает: нынешнее поколение всех людей на планете будет жить при коммунизме! Партия и наша всемирная интернациональная Родина едины! Слава великому кагану – всемирному генеральному секретарю ЦК КПСС, или чего там вместо КПСС! – покачиваясь, сошел с трибуны. Хотел было спуститься со сцены, но зал колыхнулся навстречу, отца подхватили на руки, понесли. Только проплывающие в воздухе нечищеные ботинки и увидел Леон.




