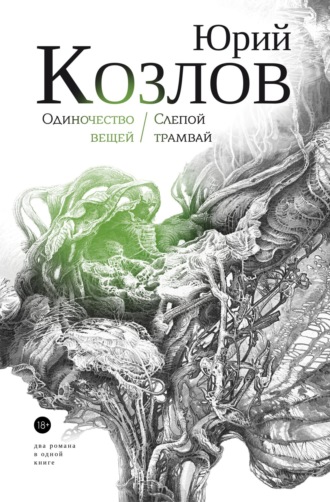
Полная версия
Одиночество вещей. Слепой трамвай. Том 1.
Тут как раз приспела повестка из районного ГАИ. Оказывается, машина два года не была на техосмотре. ГАИ грозило штрафом. Пройти техосмотр в ГАИ было невозможно, потому что невозможно было попасть в автосервис и исправить машину. «Невозможно» представлялось единым и неделимым, как Россия в безумных мечтах белогвардейцев.
Отец впал в безысходную ярость, сравнимую со знаменитым гневом Ахиллеса, Пелеева сына. Вновь начал ездить на неисправной машине, одной лишь силой гнева преодолевая неисправности.
Так, впрочем, ездил едва ли не каждый второй советский автовладелец.
«Где два года, там и три. Бог троицу любит, – определился отец насчет ГАИ. – Прижмут, скажу, работал в Антарктиде, только вернулся, что они меня, посадят? Может, уже и не будет скоро никакого ГАИ».
Схожим явилось и решение, точнее, нерешение относительно автосервиса. Пока машина ездит, пусть себе ездит, что с того, что часто глохнет, у других еще чаще глохнет, и ничего, ездят люди, да и реже стала глохнуть, сама, видать, исправляется.
Иррациональная вера в самоустранение неисправностей, чудотворную природу мотора оставалась уделом едва ли не каждого второго советского автовладельца.
А между тем время дальней поездки настало скоро, а именно первого июня, когда Леон, благополучно закончив восьмой класс, перешел, освободившись по состоянию здоровья от экзаменов, в девятый.
Надо было куда-то ехать из бесхлебной, жаркой и вонючей Москвы.
Собственная – на шести сотках в Тульской области – дача строилась десятый год. Пока что «строительство» выразилось в том, что посреди их овражистого участка вырыли за триста пятьдесят (это еще когда!) глубокий котлован под фундамент, который немедленно до краев наполнился водой.
Весной вода заливала весь участок вместе с оврагом, и смотреть, как идет «строительство», приходилось с сухого пригорка издали. Летом вода в котловане изумрудно цвела, в ней угадывалась простейшая жизнь. Осенью по поверхности плавали флотилии красных и желтых листьев, подмерзшие берега хранили слепки птичьих лап и звериных копыт. Зимой все шесть соток представляли из себя плохо залитый шишковатый неосвещенный (если только луной) каток. «Может, что-то изменилось в дачной политике? – спросила однажды мать. – И мы уже не садоводы, а рыбоводы? Вдруг нам надо разводить карпов, а мы не знаем?» На других участках дела обстояли примерно так же. Только светился трехэтажный с башнями дворец председателя садоводческого товарищества, которое так и называлось – «Товарищ».
Было время, снимали халупу в местечке с социалистическим названием «Семьдесят второй километр».
Но в этом году съемные переговоры закончились неудачей. Отец как чувствовал – не хотел звонить таксисту, владельцу этой самой халупы. Позвонил только после того, как мать заявила, что, если он и сегодня не позвонит, она пойдет и отдастся таксисту прямо в машине. Леона как раз выписали из больницы. Он никуда не выходил, сидел дома с головой, обмотанной бинтами, как янычар в чалме, с ноющим, залепленным мазью, заклеенным специальной светонепроницаемой нашлепкой глазом. Потому и слышал разговор. Таксист (как выяснилось, уже и не таксист, а помощник крупье в казино «Нимфа») запросил сумму в… конвертируемой валюте. «Увы, Коленька, – даже обрадовался, что переговоры оказались короткими, отец, – мы люди неконвертируемые. Что? Да, Карл Маркс написал “Капитал”, но это не про то, как сделать капитал, а как сделать, чтобы никто никакого капитала не сделал. В особенности помощник крупье из казино. Да, Коленька, живу по Марксу. Нет, боюсь, поздновато мне разносить напитки играющим, хотя, конечно, все в жизни может случиться. От сумы, тюрьмы, подноса с напитками не зарекаюсь».
Раньше каждое лето Леон с матерью или отцом, а то и все вместе по месяцу живали в домах отдыха Академии наук. Отец покупал путевки через свой институт. Он и в этом году подал заявление. Но отказали. «Они перестали считать научный коммунизм наукой, – с грустью констатировал отец. – Отныне придется заниматься научным коммунизмом без летнего отдыха». – «Неужели никак нельзя с отдыхом? – вздохнула мать. – Еще в прошлом году можно было». – «Все течет, все меняется, – процитировал отец, надо думать, знавшего толк в отдыхе Гераклита, – в прошлом да, в этом нет. Куда, кстати, мы в прошлом году ездили? Неужели в Литву?» – «Там были сложности с компотом, – напомнила мать. – Всем, даже неграм, консервированный, русским – из сухофруктов. И с лампочками напряженка. Ты еще в сортире вывинтил, чтобы мы могли перед сном почитать». – «Мелочной народец, – согласился отец, – но в этом году Литва нам не светит». – «А Подмосковье?» – «Глухо. Я узнавал. Даже этого старого пня, нашего завкафедрой отфутболили». – «Но ведь надо же его куда-то везти? – с жалостью и ужасом посмотрела на Леона мать. Она была уверена, раз у него забинтована голова, он ничего не слышит. Только страшно смотрит одним глазом. – Не держать же его все лето с простреленной башкой в городе?»
Тогда-то и вспомнили про новоявленного фермера-арендатора дядю Петю из деревни Зайцы Куньинского района Псковской области.
Отыскали письмо.
Отец внимательно изучил тетрадный, исписанный аккуратным – буква к букве – почерком листок.
Леон ожидал, что он выскажется по сути письма, отец же пустился в сомнительные графологические изыскания.
По его мнению, у дяди Пети был «неразработанный» почерк. Так пишут люди из народа, для большинства из которых время писания навсегда заканчивается со школой. Вот они до старости и пишут как школьники.
Если же человек из народа вдруг увлечется кляузами, доносами, перепиской с официальными инстанциями, апелляциями, поисками правды (по отцу все это находилось в одном ряду), почерк его разрушается, теряет чистые первозданные линии, приобретает размашистую шизоидную мерзость.
– Что удивительно, – продолжил отец, – человек при этом не становится ни лучше, ни грамотнее. А почерк портится.
Леон и мать переглянулись.
– Пете теперь придется много писать, – заключил отец. – Гораздо больше, чем раньше.
Некоторое время Леон и мать молчали. Мысль отца была слишком затейлива, чтобы вот так сразу ее постигнуть.
– Когда неприспособленному, с девственным, замороженным алкоголем разумом человеку приходится много писать, излагать на бумаге заявления и просьбы, – снисходительно разъяснил отец, – он может сойти с ума! Ты там присматривай за дядькой! – весело подмигнул Леону.
Леон подумал, что немного сумасшествия в жизни – это вполне допустимо. Как барбарис в плове, долька лимона к осетрине, вишня в стакане с коктейлем. Но когда отец в результате сумасшедшего рассуждения приходит к мысли, что его брат может сойти с ума из-за того, что ему придется много писать (?), призывает сына, чудом избегнувшего психбольницы (мерзавцы, не хотели верить, что он случайно прострелил себе голову!), присматривать за этим самым, могущим сойти с ума из-за писания дядей, – это уже Зазеркалье, поход грибов, как если бы грибы двинулись с ножами и корзинками на людей, суд деревьев над дровосеком, трибунал рыб над утонувшим по пьянке рыбаком. Всякое здравое слово тут начинает восприниматься как спасительная, отбивающая дух сумасшествия специя.
– Он просит пятьсот рублей, – бросила в дымящееся сумасшествием блюдо эту специю мать, – скажешь, что не в долг, что не надо возвращать, пусть Ленька поживет у него летом.
– А ты уже послала? – мгновенно стряхнул дурь отец. Как только о деньгах, усмехнулся про себя Леон, сразу сумасшествию конец, недавний безумец вмиг становится не только нормальным, но еще и скупым. Что в общем-то странно, так как нет на свете ничего более сумасшедшего, нежели пустые, с каждым днем обесценивающиеся советские деньги.
– Нет, – ответила мать. – Сами отвезете.
– Отвезем? На чем? – взъярился отец.
– На машине, на чем же еще? – спокойно ответила мать. – Не думаю, что туда можно долететь на самолете.
– Ты соображаешь, что говоришь? На какой машине? – чуть не задохнулся отец. – Машина сломана!
– Починишь! – отрезала мать.
Леон подумал: она перебарщивает со специями. Отец, пошатываясь, выбежал из комнаты.
Леон пожалел отца. Слишком много неразрешимых вопросов, свистя, летели в него, безоружного, как вражеские дротики. Отцу следовало быть каким-то сверхъестественным деловым рыцарем, чтобы с честью их отразить. Он таковым не являлся. Единственно, что мог: дать в долг (или без отдачи) брату пятьсот рулей, но это было не бог весть что в талонно-купонной разоренной стране. Леон подумал, что, вероятнее всего, проведет лето в Москве.
Собственно, это не очень его огорчило. Из жизни Леона ушло то, что сообщает физическому существованию видимость смысла, а именно переживания. Ему было все равно, где проводить время: в Москве, у дяди Пети в Зайцах, где-нибудь еще.
Леон ходил через день в поликлинику на перевязки. Медсестра разматывала чалму, пинцетом отдирала присохшие тампоны, накладывала новые, закручивала вокруг головы свежую чалму.
Мать с утра уносилась читать лекции. Ей удалось прицепиться к издыхающему, как она выразилась, обществу «Знание».
Отцу, похоже, спешить больше было некуда. За завтраком он просматривал (если их к этому времени приносили, что случалось все реже, как если бы вся печать в стране сделалась исключительно вечерней) газеты. Затем энергично потирал руки, как алкаш перед выпивкой, подсаживался к телефону. «Так-так, – начинал разговаривать сам с собой на разные голоса, как в радиопостановке. – На московских станциях технического обслуживания автомобилей начался рабочий день. Механики, электрики, жестянщики и прочие специалисты готовы обслужить клиентов. Они ожидают заказов. Звоним на Десятую линию Красной сосны, пять. Что там? Ту… Ту… Сосна-Сосна, я – Береза, прием! Не отвечают. Беспокоим Пролетарский пр., двадцать четыре, корп. три. Занято. Что у нас на Сталеваров, семь дробь один? Ура! Девушка, могу я… Бросила трубку. Связь нарушена. Выхожу вторично. Сталеваров, семь дробь один, как слышите, как слышите?»
В конце концов отец отправлялся в гараж в наивной надежде самолично исправить машину.
На следующее утро снова подсаживался к телефону.
«Так-так, – услышал однажды Леон, – нас записали на декабрь следующего года. Каких-нибудь полтора годика, и подойдет наша очередь».
И все это тянулось, пока не закончилось.
А закончилось с получением второго письма от дяди Пети, написанного уже гораздо более «разработанным» почерком. В письме дядя Петя изъявлял готовность принять «племяша» с условием, чтобы Леон «помогал с птицей и кролями» плюс к этому привел обширнейший перечень, чего привезти из столицы, просил в долг уже не пятьсот, как раньше, а тысячу рублей.
– Манка, гречка, мука, сахар, соль, курево, дрожжи… – с недоумением перечислил отец. – Он что, думает, у нас тут Рим? Третий Рим? Водка! Для расчета с ханыгами. Сам ханыга! Вот ему водка! – сделал неприличный жест рукой. – Насчет тысячи даже не знаю. Обнаглел.
– Семьсот, – сказала мать, – я вчера получила гонорар в «Знании», дашь ему семьсот.
– Тронемся послезавтра в понедельник, – вздохнув, посмотрел на Леона отец. – Книг побольше возьми. Дяди Петина библиотека оставляет желать лучшего.
– На неисправной машине? – удивился Леон.
– Думаешь, полный кретин у тебя батька? – подмигнул отец. – Есть такое волшебное слово: транзит! Надо всего-то допилить своим ходом до первой станции на трассе. Транзитников они обязаны обслуживать вне очереди, потому что транзитникам ехать дальше. На похороны. Мало ли куда? Вам что, не нравится мой план? – недовольно воскликнул, заметив, что мать и Леон кисло помалкивают.
– Он бы сгодился в любой стране, – сказала мать, – за исключением нашей. Никто не станет с тобой разговаривать на станции. С таким же успехом можешь надеяться, что встретишь на шоссе космических пришельцев и они починят машину.
– Нет выхода? Никаких надежд? – уныло спросил отец.
– Денег побольше захвати, – посоветовала мать, – может, за пределами Москвы еще интересуются деньгами. И водяру. За водяру на руках донесут.
– Да где взять? – спросил отец. – Ковер, что ли, продать?
– Спятил? – испугалась мать. – Единственная ценная вещь в доме. Только за доллары. И не сейчас. Такие ковры скоро станут на вес золота.
Они говорили о гигантском, вишневого цвета ковре, подаренном отцу Ашхабадским музеем истории КПСС. На ковре в обрамлении традиционного восточного орнамента были вытканы белые профили Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Ковер отцу подарили в середине семидесятых годов после республиканской партийной конференции, где он выступал с докладом. Тогда на Востоке хорошо дарили. Сейчас бы, конечно, ашхабадские коммунисты никому не подарили ручной работы ковер с четырехголовым призраком коммунизма. Сами бы продали через аукцион «Сотби».
Недавно родители, опасаясь, что сложенный на антресолях ковер сожрет моль, повесили его у себя в спальне. Тем самым объявив себя перед всеми входящими в квартиру врагами демократии и прогресса, воинствующими ортодоксами.
– Спрошу у Гришки, – решил отец, – вдруг у них еще дают в буфете? Нет, попробую с переплатой у грузчиков в гастрономе. Значит, в понедельник! – хлопнул Леона по плечу.
Без чалмы, без въевшихся в кожу тампонов, без нашлепки на правом глазу Леон вроде бы снова стал нормальным человеком.
Вот только внешне немного другим.
Леон остановился в прихожей перед зеркалом.
Он и раньше не отличался полнотой, нынче же сделался концлагерно худ. Черты лица заострились. Кожа на нетронутой левой стороне лица казалась матовой, как бы подсиненной изнутри. В больнице Леону побрили голову, и сейчас у него подрос уголовный пепельный ежик. Он был похож на падшего ангела или на вставшего на путь исправления демона. Но это если смотреть слева. С правой же стороны лица, откуда выковыривали дробь, где был ожог, где накладывали якобы незаметные косметические швы и специальные (как из наждака) стягивающие пластыри, кожа была серо-розовая, негладкая, как бы исклеванная острыми птичьими клювами и исхоженная когтистыми птичьими лапками-крестиками. Эдакий мусульманский орнамент носил Леон на правой стороне лица, как на знамени Аллаха или по краям вишневого ковра с четырехголовым призраком коммунизма, бродящим в пустынях Туркмении. Иногда он был почти неразличим, иногда (когда неудачно падал свет) казался отвратительнее, чем был на самом деле. «Ничего, парень, – сказал Леону хирург, закончив ремонт лица, – отрастишь бороду, никто ничего не заметит». – «Как у Маркса?» – нашлись силы пошутить у Леона. «Да хватит как у Ильича», – ответил хирург. Леон представил себя с бородой как у Ильича, но в глазах поплыло, и он заснул.
Оставалось утешаться, что могло быть хуже, что он мог превратиться в истинного Квазимодо.
И никак было не привыкнуть к правому глазу. Мало того что в нем поселился ветер, он вдруг начинал видеть не так, как левый, как положено человеческому глазу. Давал смещенное, то мозаично-пятнистое, то строго черно-белое, как на контрастной фотографии, то в невообразимом смешении ярчайших цветов конусовидное изображение действительности. Левым глазом Леон смотрел как человек. Правым как насекомое: стрекоза, пчела, бабочка или муха. А иногда как птица, потому что окружающий мир неожиданно уходил вниз, рассыпался крупой под ногами.
Но это случалось не так уж часто.
В остальное время Леон видел совершенно нормально, если не считать ветра в правом глазу.
Дело в том, что в правом глазу Леона, точнее, не в самом глазу, а в мягких тканях за глазом, так сказать в заглазье, пробив тонкую височную кость, засела дробина. Извлечь ее без сложнейшей нейрохирургической операции (в Союзе таких, естественно, не делали) не было никакой возможности.
В больнице изготовили рентгеновский снимок. Леон видел светящуюся точку посреди смутных теней, неясных очертаний, как комету, летящую внутри его черепа.
Врачи объявили, что подобная «в капсуле» дробина в принципе не может причинить особенного вреда. Нехорошо только, что она засела в непосредственной близости от зрительного нерва, который лишь по счастливой случайности не задела. Случившееся «нехорошо» неизмеримо лучше того «нехорошо», которое могло случиться. В иные моменты (в зависимости от колебаний внутричерепного давления) не исключается плотное прилегание дробины непосредственно к зрительному нерву. Правый глаз при этом, возможно, будет слезиться. На этот случай опытные врачи предусмотрели специальные глазные капли, которые Леон отныне должен постоянно иметь при себе.
Леон оценил юмор врачей. Правый глаз был неизменно сух. Прилегание дробины к зрительному нерву выражалось в том, что дробина дробила картину мира, но Леон скорее предпочел бы окриветь, чем вступить в новые отношения с врачами.
Он понял, что врачей не миновать, как только пришел в себя на полу в крови, с опаленно-прожаренной, начиненной дробью, как черным перцем-горошком, головой.
Впрочем, сначала, после калейдоскопическо-ворончатого (от слова воронка, а не ворона) кружения, после недолгого (а может, долгого, кто знает?) провала, когда сознание вернулось настолько, что он сумел отличить жизнь от смерти, понять, что номер с коммунизмом не прошел, первая оформленная мысль Леона была вовсе не о врачах, а о том, что дело не сделано.
Вторая мысль: почему не сделано?
Изображение в правом глазу было разбито вдребезги. Левый видел нормально. Если не считать, что как бы через монокль красного стекла. Уши слышали. Леон вспомнил, что, уходя в коммунизм, не слышал звука выстрела. Был какой-то мерзостный пук. Из дула ружья, как из сдвоенной трубы, курился вонючий дымок. Он еще успел подивиться: как тихо при коммунизме! Леон догадался, что дело не сделалось потому, что патроны от долгого лежания в коробочке утратили боевую мощь. Порох отсырел, а может, высох капсюль. Только красный галстук на шее пионера-тетерева не потерял цвета. Леон понял, что ему с его глазами и ушами не дождаться Красной Шапочки – коммунизма. Действие, как в устаревшей Программе КПСС, сюрреалистически сместилось: вместо Красной Шапочки пожаловал охотник!
Третья мысль: можно ли доделать дело?
Леон пошевелил руками и ногами. Вроде бы слушались. Сумел даже сесть на ковре. Но лишь на мгновение и с немедленной потерей сознания. Нечего и думать было по новой заряжать стволы. Но если бы ценой сверхъестественных усилий и удалось, где гарантия, что очередные патроны выстрелят как полагается?
Четвертая мысль была революционно-демократической: что делать?
Отдохнув на спине, Леон перевернулся на живот. С заливаемым кровью лицом (любое движение заставляло кровь, как жизнь при товарище Сталине, бежать лучше и веселее), дополз до закрытой на задвижку двери. Как в фильме ужасов, поднялся на подгибающихся, воздушных ногах, печатая по белой двери кровавые абрисы ладоней. В вертикальном положении Леон почувствовал, что, несмотря на то что вместо выстрела получился пук, голова тяжела, как гиря. Удивился: да как же можно быть живым, когда в голове столько свинца? После чего собрал последние силы, крикнул в кухню, откуда доносились позывные программы «Время» в стеклянно-рюмочной (как раз чокались) окантовке: «Мама! Я хотел собрать ружье, а оно… выстрелило! У меня кровь из головы, мама!» И уже ничего не видел, не слышал, валясь в коридор навстречу до боли родному, в русых локонах, широкоскулому пьяноватому лицу.
Очнулся в больнице.
Так что, если быть точным, только пятая его мысль была о врачах, причем мысль эта отнюдь не являлась продуктом свободного сознания, а была строго детерминирована, то есть обусловлена неоспоримым фактом пребывания Леона на больничной койке в крови и в бинтах.
Леону понравились врачи, непосредственно занимавшиеся своим врачебным делом: копавшиеся длинными, сверкающими в огне ламп операционной инструментами в его правом глазу, выковыривавшие из головы прижарившиеся, как гренки к яичнице, свинцовые дробины, обрабатывавшие, подрезавшие ножницами обожженную кожу. Они были суровы и немногословны, эти врачи с погасшими глазами, серыми от усталости лицами. Чем-то они напоминали учителей.
Совсем не понравился Леону каким-то образом прознавший про него врач-психиатр из районного психдиспансера.
Леон неоднократно беседовал с ним в ординаторской.
В ординаторской было убого и несвободно, как в кабинете следователя. И так же негусто с мебелью: продавленный кожаный черный диванчик, похожий на сапог, стол, стул, вешалка, на которой висели серенькие белые халаты, почему-то с расплывшимися штемпелями: «Киевский райпищеторг г. Москва». На окнах, однако, отсутствовали решетки, да и разговаривал психиатр относительно спокойно, насколько это было возможно для врача из районного психдиспансера, разговаривающего с уличенным в попытке суицида подростком.
Сидя за столом, врач задавал вопросы и непрерывно писал. Леон, вжавшись в изношенный сапог-диванчик, недоумевал: неужели скудные, однозначные его ответы дают основания для столь бурного, в духе Федора Михайловича Достоевского, сочинительства?
Психиатр сразу заявил, что не надо ему вешать на уши лапшу про «несчастный случай». В красках живописал Леону, что того ожидает в случае постановки на учет в психдиспансер, куда, как известно, ставят на учет всех несостоявшихся самоубийц. В институт – только в самый тупой, гидромелиоративный, в армию – исключительно в стройбат к чуркам, за границу ни в жизнь, разве только со стройбатом в Афганистан восстанавливать разрушенное, к этому идет, раз в два месяца на собеседование, каждый год, как штык, на обследование с электрошоком, барбитуратнитрат-бромидами внутривенно и внутримышечно. Потом, правда, врач заметил, что да, конечно, время сейчас либеральное, точнее, развальное, но ведь, совсем как недавно отец, процитировал Гераклита, все течет, все меняется, не может нынешний маразм длиться вечно, кто-нибудь да остановит крепкой рукой либеральные розвальни. «Родители у тебя кто?» – поинтересовался врач. Леон ответил. «Они тебе лучше объяснят», – сказал врач, а затем (в десятый, наверное, раз) поинтересовался: что все-таки побудило Леона свести счеты с жизнью? И Леон в десятый же раз повторил, что произошел несчастный случай, не собирался он сводить счеты с жизнью. На что психиатр пустился в рассуждения, что вполне понимает Леона: не хочется жить после того, как совершишь гнусность, превосходящую меру человеческого разума. И все смотрел, смотрел в глаза Леону не тусклым, как у остальных врачей, а блестящим птичьим взглядом. И все писал, писал, как будто склевывал что-то с нищего ординаторского стола.
Предположение психиатра, как ни странно, сообщило Леону волю к жизни, так как если чего еще в жизни он не совершил, так это именно гнусности, превосходящей меру человеческого разума. Пока что гнусности, совершенные Леоном, вполне укладывались в эту самую меру. Даже оставалось свободное местечко. А психиатр гнул свое: помешать обдуманному самоубийству может только Господь Бог. С единственной целью: чтобы согрешивший покаялся, облегчил душу. При упоминании Господа Бога блестящий птичий взгляд психиатра становился проникающе-змеиным. Под этим взглядом Леон змеино же соскальзывал то ли в сон наяву, то ли в длинный, как тело анаконды, обморок. Потом просыпался на кирзовом диванчике со странной легкостью в теле, но со свинцовой тяжестью в затылке, снова видел перед собой пишущего психиатра.
Леон не сомневался: психиатр не в себе.
Когда он явился на очередную беседу, из ординаторской вышел угрюмый синелицый, как марсианин из произведений Рэя Брэдбери, парень с перевязанными до локтей руками, как будто в толстых белых нарукавниках. «Что, – хмыкнул парень, – и тебя раскалывает на малолетку?» – «Малолетку?» – удивился Леон, «Вот придурок, – выругался парень, – даже если бы я изнасиловал, придушил и закопал малолетку, на кой мне кончать с собой? Какая тут взаимосвязь?» – и, нехорошо рассмеявшись, пошел по больничному коридору мимо коек, на которых хрипели не поместившиеся в палаты, привезенные ночью переломанные мотоциклисты.
Последняя беседа с психиатром получилась протокольная. Он попросил Леона рассказать с точностью до минут, чем он занимался с тринадцати ноль-ноль до пятнадцати сорока в день накануне. «Несчастного случая?» – уточнил Леон. Психиатр поморщился, но не стал вспоминать ни про гнусность, превосходящую меру человеческого разума, ни про Господа Бога, якобы ожидающего от Леона покаяния. Как-то он охладел к Леону, услышав, что с девяти до четырнадцати тридцати тот находился в школе (это могли подтвердить одноклассники и учителя), а с четырнадцати тридцати до шестнадцати двадцати играл в футбол на школьной спортивной площадке, что опять-таки могли подтвердить две команды по семь игроков в каждой, а также русский физкультурник, изображавший из себя судью.
На сей раз в глазах психиатра не наблюдалось блеска, тусклы были его глаза, как и у остальных врачей в больнице. «Выздоравливай, – зевнул он в лицо Леону. – Если понадобишься, позову, – и, когда обрадованный Леон схватился за ручку двери: – А вообще-то самоубийство, особенно для мужика, трусость. Если, конечно, не гомосек и не схватил СПИД. У тебя пока нет СПИДа. Живи и радуйся!»




