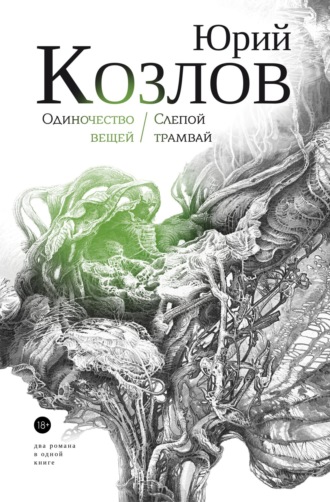
Полная версия
Одиночество вещей. Слепой трамвай. Том 1.
– Хватит стоять! – машина взревела. Они подлетели к райкому-горкому, как коммандос на джипе. – Со мной или посидишь? – отец выхватил из бумажника красно-золотое, иконное, с гербом удостоверение Академии общественных наук при ЦК КПСС.
– Посижу, – Леон понял, что ему не угнаться за помолодевшим отцом.
Отец рванул по ступенькам, как спортсмен.
Леон выбрался из машины. Воздух в Нелидове был прозрачен и чист. Очевидно, на заводы, которых здесь не могло не быть, уже не завозили сырье. Или повыходило из строя оборудование одна тысяча девятьсот четырнадцатого года. Грачи и вороны разлетались с купольной арматуры. Служба закончилась.
Леон обратил внимание, что лестница, возносящая здание райкома-горкома над площадью, устроена своеобразно. Первая и последняя ступени чрезвычайно широки.
Леон вспомнил, что подобные ступени, кажется, называются стилобатами. И еще вдруг ни к селу ни к городу вспомнил про свободу, у стилобата которой кто-то когда-то в чем-то клялся. Леон, как ни старался, не мог доподлинно вспомнить, кто это был, когда жил и зачем клялся, зато с уверенностью вспомнил, что клятвы своей тот, неведомый, не сдержал.
Свобода, подумал Леон, похожа на неискушенную провинциальную девушку, которой лихие молодцы обещают то любовь до гроба, то законный брак. А в итоге запирают в публичный дом. И еще подумал, что у райкомовско-горкомовского стилобата звучали не менее страстные клятвы в верности партии. Но если свободу еще можно было вообразить в образе обманом загнанной в публичный дом честной девушки, партию – только в образе пожилой, густо намазанной, выходящей в тираж проститутки, знававшей лучшие времена, но более не могущей содержать многочисленных молодых сутенеров. Конечно, и та и та вызывали жалость. Но если первую следовало жалеть, как Сонечку Мармеладову, вторую, как… старуху-процентщицу?
Леон, впрочем, не успел додумать до конца эту мысль, пустить ее прыгать дробью по стеклу.
Сопровождаемый кем-то безликим, серокостюмным, на верхнем стилобате появился отец. Серокостюмный вычертил в прозрачном нелидовском воздухе многоугольник сложнейшего маршрута. Обилие ломаных пересекающихся линий наводило на мысль о пятиконечной звезде Соломона или шестиконечной звезде Давида, а то и древнеиндийской, опороченной Гитлером, свастике. Даже не верилось, что в Нелидове возможна такая путаная езда.
– Симпатичные ребята, – отец сел за руль, твердой рукой запустил двигатель.
Мотор заработал как часы. Словно машина была металлическим на колесах членом партии, осознавшим прежние заблуждения, окончательно определившимся среди геометрических фигур.
– Только немного растерялись, – добавил отец. – Выпустили из рук вожжи. Хотя им здесь, в глубинке, все карты в руки. В Москве партии нет, а здесь… Даже не верится. Ничего, – засмеялся весело и энергично, – сумерки – не ночь. А ночь для партии – время наслаждений.
– Куда мы едем? – спросил Леон.
– Что? – лицо у отца было одухотворенным, как у поэта в момент сочинения стихотворения. Сопричастность чему-то значительному, одному лишь ему известному читалась на лице отца. Точно таким же, конструктивно-задумчивым, погруженным во что-то свое, бесконечно родное и одновременно в государственно-общественное (не менее свое и родное), помнится, однажды вернулся отец после встречи с секретарем ЦК КПСС. Вскоре они переехали из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную. У отца вышла толстая книжка в «Политиздате». Его повысили по службе. Вероятно, и в государстве с обществом дела пошли на лад. – Куда едем? А на станцию техобслуживания, – спохватился отец. – Потом в гостиницу.
– В гостиницу? – не поверил Леон.
– Не ночевать же в машине, – ответил отец. – В восемь у меня выступление перед здешним партхозактивом. Первый секретарь пристал с ножом к горлу: выступи да выступи. Неудобно отказываться. Тем более он звонил на станцию. Тут все как в старые добрые времена. Ну, а утром – вперед!
Некоторое время ехали молча. Машина подскакивала на ухабах. Деревянное черное Нелидово выглядело странно притихшим, обезлюдевшим – ни трезвых, ни пьяных! – в ранний летний вечер. Сюда доставали белые ночи. А потому дома, колодцы, неторгующие киоски, задумчиво пережевывающие траву вдоль обочин коровы, белые и пестрые куры и петухи, чистые небеса, дальние горизонты – все как бы очутилось в прозрачном светящемся мешке. С ветром обнаруживалось мерное колыхание мешка, как будто Господь Бог (кто же еще?) шагал с мешком за спиной неизвестно куда.
Леон почувствовал, как отдаляется от обретшего себя отца, как твердеет между ними воздух, превращаясь не в слово – нет, в свободонепроницаемую стену. Потерявший себя, попивающий, парадоксально философствующий, небритый, не могущий починить машину отец был ему неизмеримо ближе, нежели нынешний, вернувшийся в свободонепроницаемость, как в пуленепробиваемый жилет.
Вероятно, тут имел место ущерб в мировосприятии. Только кто из них был более ущербен? Ситуация запутывалась тем, что мировоззренческий ущерб (Леон был в этом абсолютно уверен) имел такое же право на существование, как и так называемая норма. Поскольку один лишь Господь Бог, несущий в светящемся мешке за спиной Нелидово, доподлинно знал, что ущерб, а что норма. Но молчал, поощряя соревнование, в котором в победителях неизменно оказывалось нечто неизмеримо более худшее, нежели норма или ущерб.
Голодное нищее Нелидово, издевательски раскинувшееся среди плодородной земли, лесов, озер – одним словом, среди Божьего мира, где все изначально было предусмотрено для сытой счастливой жизни, казалось в высшей степени свободопроницаемым. Леон приравнивал тезис «Бог есть свобода» к очередному (какому по счету?) доказательству бытия Божия. То был как бы невидимый локомотив, к которому манило прицепить раздолбанный, сгнивший на запасных путях, ржавый состав, чтобы он умчал его небесной магистралью к благости.
Но что-то не сцеплялось.
Локомотив оставался немощным на свободопроницаемых нелидовских просторах. Господь Бог повагонно свалил Нелидово в светящийся мешок да и вскинул на плечо. Только вот ходил он, похоже, по кругу, как ходят растерявшиеся, заблудившиеся или водимые бесами. «Значит, не свобода, – подумал Леон, – другой уголек потребен этому локомотивчику».
Леон вдруг увидел прямо в небе, там, где солнце лежало уже не на носилках, а в гробу, и был тот синий гроб украшен белыми звездами, недвижный локомотив, определенно иностранного вида, бессильный сдвинуть с места длинный состав из черных нелидовских изб, коробчатых пятиэтажек, разрушенных храмов с кружащимися над ними православными врановыми, брошенных полей, бетонных со стилобатами и без оных райкомов-горкомов; огорченного, пенсионного вида Бога в железнодорожной фуражке, а рядом отца, почему-то в ленинском блатном кепаре, снисходительно похлопывающего Господа по плечу: «Хреновый из тебя железнодорожник, дед! Может, где и можешь, но не на нашей Октябрьской дороге!» Леон провел рукой перед лицом, отгоняя отвратительное видение.
Уже стояли перед шлагбаумом, запрещавшим въезд на территорию станции техобслуживания. По обе стороны проезда тянулись плотные ряды машин. Было удивительно, что в небольшом нищем Нелидове столько легковых автомобилей. И еще более удивительно, что все они неисправные.
Отец решительно (он теперь все делал решительно) поднял шлагбаум.
Наглый, самовольный их въезд в святая святых вызвал у находившихся там клиентов и обслуживающих их мастеров (выглядело, впрочем, как если бы суетящиеся, что-то нашептывающие, невпопад улыбающиеся клиенты обслуживали прохаживающихся, суровых, надменно-брезгливых мастеров в черных промасленных комбинезонах) два сильнейших, но параллельных, то есть не приводящих к немедленному действию, чувства: живейшую неприязнь и упорное нежелание замечать. Конечно же, всем хотелось немедленно выразить неприязнь, но как это сделать, если объект неприязни как бы не существует?
– Пойдем со мной, – сказал отец.
– Не будешь запирать? – удивился Леон.
– Здесь можно не запирать. Эй, любезный! – зычно обратился отец к проносящему на плече, как бревнышко на субботнике в Кремле, новенький глушитель мастеру. – Где директор?
Из вырвавшегося из уст того матерного шипа: «А ххху… зна… бля… ктор… там на… рху…» – можно было заключить, что кабинет директора находится на втором этаже (станция была двухэтажной), а вообще-то директор может быть где угодно.
Но он оказался у себя в кабинете, директор по фамилии Апресян.
Перед кабинетом имелось подобие приемной. На железных, с облупленными фанерными сиденьями стульях маялись нервные люди, держащие в руках единообразно свернутые в трубочки заявления. Один из них вдруг посмотрел на отца и Леона в эту самую бумажную трубочку, как адмирал Нельсон в подзорную трубу.
– У меня назначено, – коротко проинформировал очередь отец и, не дожидаясь возмущенных возгласов, проследовал вместе с Леоном в кабинет.
Директор нелидовской станции техобслуживания легковых автомобилей «Жигули» Апресян о чем-то тихо и раздумчиво совещался со смуглым, заросшим щетиной человеком в дорогой кожаной куртке, не могущим быть не кем иным, как бандитом или рыночным (а может, не рыночным, а каким-нибудь оптовым) торговцем.
– Слюшай… – недовольно обернулся этот самый бандитствующий торговец.
– Пусть товарищ Апресян послюшает, – перебил отец. – В приемной полно людей. Русских, между прочим, людей, местных жителей. А он целый час занят с… кем?
– Слюшаю вас, – тускло произнес Апресян.
– Слюшай, ты как разговариваешь? – изумился торгующвй бандит. – Ты кто, фашист, этот… из «Памятника»? Почему сеешь междунационалистическую рознь?
– Товарищ Апресян, – возвысил голос отец. – Пригласить людей из приемной?
– Слюшаю, слюшаю вас, – Апресян сделал знак рыночнику замолчать.
Оскорбленный, тот отошел к окну, задымил «Данхиллом».
Отец заявил, что прибыл в Нелидово по решению… подпольного ЦК, чтобы провести специальный семинар с местной властью. Семинар состоится сегодня в восемь вечера в актовом заде райкома-горкома. Не худо бы и товарищу Апресяну поприсутствовать.
– Ты с какой горы свалился? – не выдержал одной из проживающих вблизи гор национальности рыночник. Его сознанию оказалась не чужда некая примитивная образность. – Где эта подпольная ЦК? Какой семинар? Нет никакой ЦК, разогнали вашу ЦК! Ты где живешь? Где ходишь?
– Помолчи, Аслан! – махнул рукой Апресян. – Вы много говорите, – обратился к отцу. – Если вы пришли, чтобы пригласить меня на семинар, я с благодарностью принимаю ваше приглашение. Больше ко мне вопросов нет, товарищ… как вас?
– Есть, – вздохнул отец.
– Слюшаю вас, – усмехнулся Апресян. Отец коротко изложил суть дела.
Апресян снял телефонную трубку, распорядился прислать к нему какого-то Гришу.
Потянулись минуты томительного ожидания.
Говорить отцу, Апресяну, неизвестной национальности рыночному бандиту было решительно не о чем. Но и никак было не разойтись – в такой противоестественный узел завязались доминирующие в обществе силы: недобитая партия (ее в данный момент представлял отец), рынок (небритый торговец), связующее звено между властью (перелицевавшейся партией) и рынком – Апресян – коррумпированный мафиозный хозяйственный руководитель, жаждущий приватизации. Ждали Гришу – народ, рабочий класс, во благо которого, как утверждалось, революционно изменялись в стране производственные отношения.
Наконец объявился Гриша, оказавшийся тем самым малым, несшим на плече (явно на сторону) членистый новенький глушитель, изъяснявшийся шипящим, как змея или проколотая камера, матом. Каким-то он показался при пристальном рассмотрении дефективным, Гриша, с открытым, как клюв у птицы, ртом, скошенными лбом и подбородком, отчего лицо его напоминало рыцарское забрало.
– Гриша, – сразу же поставил отца в невыигрышное положение коварный Апресян, – мне позвонил первый секретарь нашего горкома, да-да, тот самый, которому ты делал «Волгу», попросил помочь товарищу. Посмотри. Дефицит, сам знаешь, у нас по записи для инвалидов и ветеранов. Товарищ не инвалид и не ветеран. Расчет на общих основаниях, – повернулся к отцу, – с первого июня по решению трудового коллектива мы перешли на договорные цены.
– Загоняй в угол на третий подъемник, – бросил Гриша и, не дожидаясь ответа, покинул кабинет.
Отец и Леон устремились следом. В дверях услышали, как Апресян и докуривший свой «Данхилл» торговец гортанно заговорили на незнакомом языке.
Очередь по-прежнему безропотно ожидала, свернув заявления на ремонт в белые трубочки. Рехнувшийся смотрел в свою сквозь окно на небо, уже как Коперник в телескоп. Впрочем, он мог смотреть куда угодно и как угодно: ни победы над неприятельским флотом, ни новой звезды ему было не высмотреть.
– Быдло, – достаточно внятно, чтобы очередь расслышала, пробормотал отец, – проклятое быдло! Сколько можно сидеть, терпеть! – махнул рукой.
Странно.
В кабинете Апресяна отец был как бы чрезвычайным и полномочным представителем несчастного русского народа, томящегося в приемной, пока два восточных человека обговаривают темные делишки. Добившись же чего хотел, вдруг, как ракета от пустой ступени, отделился от оставшегося в томлении народа, более того, вздумал его судить.
Каким-то он сделался многоликим, обретший под ногами почву отец. Прежде он был одинаков – подавлен, неуверен, растерян – со всеми: с Леоном, матерью, сантехником, врачом, членом ЦК КПСС, директором Института Маркса – Энгельса – Ленина, однажды вечером смятенно позвонившим ему домой. Нынче же меньше чем за час: вдохновенно-победителен в райкоме-горкоме, вельможно-вымогающ с Апресяном, презрительно-высокомерен по отношению к свернувшей в трубочку заявления на ремонт очереди. Леону открылось, что свободопроницаемый человек неартистичен, высокоморален и скучен, как… Господь Бог. В то время как свободонепроницаемый – эффектен и театрален, как… сатана.
С Гришей отец решил быть народным в самом скверном – партийно-вельможном – понимании народности. Понес какую-то похабщину с покушениями на юмор.
Гриша сдержанно хмыкал, кривил лицо-забрало.
Липовая отцовская народность осталась невостребованной.
– Мразь! – прошипел отец, когда Гриша уселся за руль, чтобы самолично поставить машину на подъемник. – Мразь! Я должен унижаться перед такой мразью! – Гнев изрядно обеднил эпитетами отцовскую речь. – Боже мой, во что превратилась наша страна!
После чего, отринув похабствующую народность, отец коротко проинформировал Гришу, что, если тот сделает все как надо, с него, отца, помимо оплаты по грабительскому прейскуранту, еще и поллитра.
Глаза у Гриши, равнодушно нависшего над мотором, потеплели. Лицо-забрало просветлело, как, должно быть, светлели лица под настоящими забралами у настоящих рыцарей, когда прекрасные дамы им кое-что обещали.
– Добро, – обнадежил Гриша, запустил руки в мотор, тут же и вынес приговор: – Реле залипает. Не проходит ток от генератора, вот и вырубается.
– Ну и? – тревожно выдохнул отец.
– Зачистить язычки, – широко (во все забрало) зевнул Гриша, показав собственный, обставленный редкими черными пеньками зубов, язык, уставший зачищаться самогоном, – и все дела. Минутное дело.
Приговор был легок, как десятирублевый штраф вместо отнятия водительского удостоверения.
– Ты там и другое посмотри, – нашелся отец, – чтобы мне не плакать о поллитре.
– Масло могу поменять, фильтры, – служебно перечислил Гриша, – сход-развал гляну. Чего еще? Клапана в норме. Приходи через час.
– Ты уж не подведи, браток, нам далеко ехать, – отец незаметно сбился на неуверенно-просящий тон.
«Вот она, наша русская свобода», – подумал Леон. Гриша не удостоил ответом.
– Мразь! – прорычал отец (далось ему это слово!), когда вышли на воздух. – Власть и водка! Больше ничего этому народу не нужно. Чем тупее, злее, враждебнее к нему власть, тем она ему милей, потому что понятней. А водочка – политика! Водочка – жидкая душонка народа, вот и щупать-щупать его за душеньку!
Хорошо ведет себя, послушненько – снизить ценочку. Не выполнил пятилетний планчик, не собрал колхозный хлебушек – приподнять. И чтобы ничего своего, все общественное! Чтоб головенку из нищеты не смел высунуть! Чтоб все мысли: как бы выжрать да ноги с голодухи не протянуть. Вот тогда, мразь, будет слагать песни о мудрой партии. Или какая там будет власть.
– Уже было, – возразил Леон, – да и сейчас продолжается. Водочка, конечно, душенька, но не вся душенька водочка. А главное, нет перспективы.
– Есть перспектива! – трубно, во весь огороженный двор станции техобслуживания крикнул отец.
Если у Гриши глаза всего лишь потеплели от обещанной водочки, у отца – воспламенились белым космическим огнем от решительно никем не обещанной, скорее отобранной, перспективы. Она пьянила отца сильнее водки. Внутри свободонепроницаемости он обрел непостижимую свободу. Или сошел с ума. Что было в общем-то одно и то же. Беда стране, где у подлых людей глаза воспламеняются от водки, у образованных – от свободы внутри несвободы. Двум встречным огням по силам спалить мир.
Преследующие мастеров клиенты, убегающие от клиентов мастера на мгновение замерли, как в детской игре, пораженные вестью, что, оказывается, есть перспектива.
– Есть перспектива, – повторил отец уже значительно тише.
– Какая? – тоже тихо, как будто они сговаривались на кражу, спросил Леон.
– Мировая революция! – вдруг завопил отец. – Ее просрали, предали, променяли на счета в швейцарских банках! Но они забыли, проклятые ублюдки, забыли, забыли, что… – в голосе отца сквозь праведный гнев прорезались причитающе-кликушеские интонации.
– Забыли что? – Леон был совершенно спокоен за отцовский рассудок. Свободонепроницаемые люди с ума не сходили. Потому что были сумасшедшими.
– Забыли, что мировая революция – тысячелетняя мечта народа-богоносца! – громко и спокойно возвестил отец.
То было какое-то безумие при ясном разуме. И шансов восторжествовать у него было куда больше, нежели просто у безумия или просто разума.
Присутствовавшие во дворе съежились, втянули головы в плечи. Они были бессильными песчинками на страшном холодном ветру мировой революции. И, несмотря на либеральное чтиво последних лет, многоротый демократический ор на митингах, свободные выборы, на которых они каждый раз фатально избирали не тех, в глубине души осознавали это, так как были изначально, всем своим существом враждебны труду, не желали признавать, что налаженный, организованный до мелочей быт (без дощатых, продуваемых ветром мировой революции сортиров) есть самая что ни на есть культура, причем наиболее близкая и доступная народу, так как он сам ее создает (должен создавать) и сам же ею пользуется (должен пользоваться). И не было в их душах Бога, ибо Бог был не только и не столько свободой, сколько трудом, великим трудом, так как иначе не создал бы все сущее за каких-то жалких шесть дней.
Потому-то, знать, никто не возразил отцу: ни вороватые мастера, ни унижающиеся (здесь, а у себя на работе, надо думать, не менее вороватые) клиенты, ни мусульмане, развернувшие возле станции торговлю шашлыками из местного мяса по баснословным ценам. Только крохотный, украдкой писающий у забора мальчик слегка удивился, услышав разом про Бога и революцию. Про Бога ему иногда говорила бабушка. Про революцию – учителя в школе. Но говоря про Бога, бабушка никогда не вспоминала про революцию. Учителя, говоря про революцию, – никогда про Бога.
– Ни один нормальный человек сейчас, если только он не законченная сволочь, не может мечтать о мировой революции, – сказал Леон. – Это противоестественно и аморально.
Разумные, однако, слова его прозвучали совершенно безжизненно. Как будто он говорил диким зверям за вегетарианство. Только где звери, где хищники? Хищен, как ни странно, был сам прозрачный луговой нелидовский воздух, давненько не нюхавший мясца.
– Наверное, – легко, как стопроцентно уверенный в собственной правоте человек, согласился отец. – Но против воли Божьей не попрешь.
– Божьей воли? – удивился Леон. – В чем она?
– В том, что наш народ отказался от Бога и от свободного труда, – отец ронял слова, как свинчатку, – принес себя в жертву.
– Мировой революции? Или… Богу?
– В жертву, – вздохнул отец, – чтобы сделать все другие народы несчастными. Если, конечно, получится.
– Значит, мировая революция…
– Неизбежна, – подтвердил отец, – пока ее хочет Бог и покуда существует наш народ. Русский народ будет существовать до тех пор, пока Богу угодна мировая революция.
Так за разговором минул испрошенный Гришей час.
Отца изумил длиннейший перечень работ, указанный в шуршащем фиолетово-расплывчатом счете, который ему предстояло немедленно оплатить в кассе. Изумляла и сумма. Как будто за этот час Гриша по винтикам разобрал и заново собрал машину, исправив, заменив, проверив все, что только можно было исправить, заменить, проверить.
Между тем он решительно не производил впечатления выбившегося из сил, проделавшего титаническую работу человека. Гриша стоял возле машины под щитом «Курить строго воспрещается!», покуривая, и улыбка на его стальном лице-забрале напоминала неразгаданную улыбку Моны Лизы Джоконды.
Отец сник, победоносное коммунистическое его веселье, как снег, растаяло в лучах Гришиной улыбки, удивительно скверно дополняющей перечень якобы совершенных работ.
В этой улыбке, как в узелке, который не смог поднять былинный богатырь Святогор, сквозила неподъемная земная сила. В бездонную пропасть улыбки свистящими валунами летели пятилетние и семилетние планы, миллиардные капиталовложения, нулевые циклы, всесоюзные ударные стройки, денежные, аграрные и прочие реформы, хозрасчет, самоокупаемость, госприемка, химизация и мелиорация, рабочий контроль, приватизация, военные патрули, съезды, отряды самообороны, пленумы, продовольственные и непродовольственные программы, мятежи, Чернобыли и Семипалатински, исторические и неисторические решения. В улыбке бесследно растворялось все хорошее и плохое. И только шире, загадочнее она становилась. Невольно думалось: есть ли что-то в мире, чтобы встало костью поперек глотки, смахнуло веником с лица-забрала оскорбляющую Бога улыбку?
Отец, стиснув зубы, оплатил чудовищный счет, пожертвовал самой невзрачной (зеленой, с кривой наклейкой) бутылкой водки, как пожертвовал Бог несчастным русским народом.
А пожертвовав, обнаружил на аккумуляторе какие-то болты с шайбами и хомутики.
– Это что? – хмуро поинтересовался у Гриши.
– Где? – бутылка бесследно, как астероид в космическом пространстве, исчезла в черных промасленных глубинах Гришиного комбинезона. – А… – небрежно смахнул обнаруженное на промасленную же ладонь. – Лишние, я там новые поставил. – И снова улыбнулся отцу улыбкой Джоконды.
Отец, теряя сознание от бессилия пред этой улыбкой, с белым, как чистый лист, лицом, оставивший в кассе сто с лишним рублей, осиротевший на бутылку водки, сел за руль.
Всю дорогу вслух, как будто один был в машине, нетвердым голосом убеждал себя, что, наверное, все-таки Гриша сделал все, что указано в гаргантюанском перечне, они, мастера, делают все мгновенно, автоматически, ведь не глохнет, не глохнет же машина, клапана не стучат, тормоза вроде лучше схватывают, определенно мягче едет, просто великолепно едет, новая так не ездила. Ну а если… Он вернется! Он покажет этой мрази!
А с верхнего стилобата райкома-горкома невыразительный серокостюмный посматривал на вылезающих из машины отца и Леона с объяснимым сомнением. Первичный благородный порыв, безжалостно укрощать в себе который советовал Талейран, успел остыть. На лице серокостюмного прочитывалось мучительное желание повнимательнее вглядеться в документы этого преподавателя из несуществующей более Академии общественных наук при ЦК КПСС. Зачем прибыл в богоспасаемое Нелидово? О чем собирается толковать с аппаратом райкома-горкома?
Видимо, отец, как самолет в небе, излучал отличительный партийный сигнал «свой», потому что в момент рукопожатия тревога ушла с лица серокостюмного. Он дружески повел отца боковыми (жреческими) ходами к храму-сцене. Леону было велено подняться по главной лестнице в зал и сидеть там вместе с активом в креслах.
Внушительный деревянно-коврово-бархатный зал, с бело-гипсовым алтарным, укутанным в кумачи Ильичом, был заполнен, как по весне погреб картошкой, едва ли на четверть. Человек семьдесят, не больше, коммунистов – аппаратчиков и хозяйственников – пришло на встречу с отцом. «Достаточно, – подивился остаточной организованности коммунистов Леон, – если принять во внимание, что партия разогнана и они понятия не имеют, кто он такой».
Серокостюмный перечислил названия книг, учебников, написанных отцом, его научные звания. В зале раздались снисходительные ностальгические аплодисменты. Так аплодируют доброму прошлому, неизбывная прелесть которого с каждым прожитым днем все очевиднее, но которое не вернуть, нет, не вернуть.




