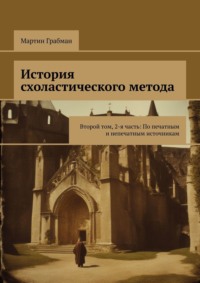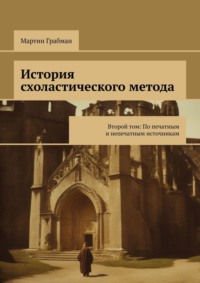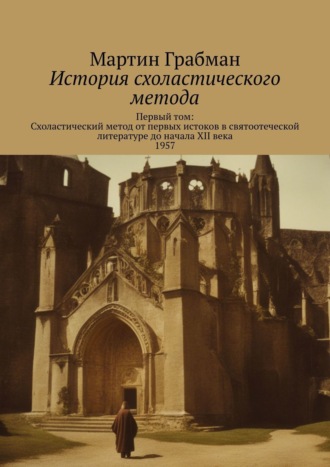
Полная версия
История схоластического метода. Первый том: Схоластический метод от первых истоков в святоотеческой литературе до начала XII века 1957
Подробному рассмотрению схоластического богословия и метода посвящен испанский иезуит Иоганн Генер,129 который во всем первом томе своей «Theologia dogmatico-scholastica» высказывает исторические, принципиальные и апологетические соображения о схоластическом богословии.
Наиболее важными работами этого периода в области истории схоластического метода являются «История Парижского университета» Дю Булея 130и монументальный труд Дю Плесси д'Аржантра 131«Collectio iudiciorum».
С протестантской точки зрения, Биндер,132 Трибеховиус 133и Якоб Томазиус 134довольно сурово осуждали схоластику и схоластическое знание. Историки философии, такие как Брукер,135 Тидеманн,136 Теннеманн,
Deslan des 137и т. д., представили средневековую философию в иногда весьма неблагоприятном свете и подготовили почву для резких и искаженных суждений даже о самых выдающихся схоластах, как, например, в «Geschichte der Logik des Abendlandes» Прантля.
В эпоху Просвещения схоластика также подвергалась поношению и борьбе со стороны католических теологов и философов,138 и лишь немногие, например, голос Гердиля,139 раздавался в защиту средневековой науки.
Со времени подъема католического богословия с 1930-х годов и до настоящего времени литература по истории схоластического метода стала более обширной, чем в предыдущие века. Мёлер,140 Штауденмайер,141 Кляйтген 142и Кун 143дали более общую характеристику природы и развития схоластического богословия. Мы располагаем, по общему признанию, отрывочным исследованием теологических сумм, лишенным рукописной основы, Й. Симмлера.144 Буркард 145также рассмотрел схоластический метод в работе о методе в теологической дисциплине, но без исторической глубины.
Помимо описаний в «Histoire litteraire de 1a France»,146 мы имеем работы Шарля Туро 147о внешней организации обучения в парижском университете, Дуэ 148о доминиканской системе обучения, Иларина Фельдера 149о францисканской. Многотомный труд Фере 150о парижском богословском факультете не основан на источниках и во многих местах неточен и недостоверен.
О схоластическом методе преподавания писали Ф. Пикаве 151и Ж. А. Эндрес.152
Самой важной подготовительной работой для истории схоластического метода мы обязаны Генриху Денифлю,153 особенно его труду об университетах Средневековья и «Chartularium Universitatis Parisiensis». Первый том последнего монументального труда, в частности, содержит богатый и ценный документальный материал об академической жизни Парижского университета в XIII веке.154
Проникновенное исследование Денифле «Die Sentenzen Abälards und die Bearbeitungen seiner Theologie vor Mitte des 12. Jahrhunderts» является новаторским в области истории схоластического метода.155 Кроме того, существует ряд трудов блестящего исследователя средневековой литературной и церковной истории, например, его исследование о книгах156.
Большую ценность и помощь историку схоластического метода представляют многочисленные заметки Денифле о жизни и трудах схоластов, особенно его информация о неопубликованных схоластах. Значительна в этом отношении и его последняя работа: «Die abendländischen Schriftausleger bis Luther über Iustitia Dei (Rom 1,17) und Iustificatio». Наконец, эпохальные публикации Денифле о немецком мистицизме в Средние века также проливают свет на природу схоластического образа мышления и работы более чем в одном отношении.157
Второй раздел. Зарождение схоластического метода в патристике
Первая глава. Общие предварительные замечания. Христианство и интеллигибизм. Фундаментальная позиция патристики по отношению к греческим спекуляциям. Платонизм» Отцов Церкви
О том, что корни схоластического метода можно найти уже в патристике, что в трудах Отцов уже видны зачатки схоластики, можно догадаться заранее, исходя из зависимости схоластики от патристики и из фактического ядра и сущности схоластического метода.
Ведь преемственность содержания между патристическим и схоластическим богословием предполагает и преемственность научного метода в обе великие эпохи. Кроме того, схоласты неоднократно обращались к патристическим изречениям и образцам при установлении и применении методологических принципов. Более того, если использование разума и философии для рационального проникновения в содержание откровения, систематизации учения веры и разрешения противоречивых трудностей мышления составляет саму суть схоластического метода, то само собой разумеется, что Отцы использовали основные элементы этого метода при изложении и защите христианской доктрины, пусть и не в такой развитой и изощренной форме, как это делали Средние века и, в частности, высокая схоластика.
Однако по трудам самих Отцов можно апостериористически прочесть, можно ли найти в них зачатки и зародыши схоластического метода и в какой степени, на каких этапах развития происходило основание схоластического метода в патристической литературе.
Прежде чем подробно рассмотреть эти следы схоластики в греческой и латинской патристике, необходимо обсудить один вопрос более общего и фундаментального характера.
В современной истории протестантской догматики 158утвердилось мнение, нашедшее отклик, в частности, у французских католических теологов,159 что евангельское христианство – это всего лишь опыт, живое восприятие единения с Богом и т. д., но никак не доктрина, обращенная к интеллекту и тем более к спекуляции. Таким образом, христианство Евангелия Иисуса – это не догма, не церковь и не богословие, а просто жизнь, религиозный опыт, нечто далекое от концептуального мышления. Из этой посылки историки догматики делают вывод, что благодаря применению греческой диалектики, греческой философии природа христианства была переделана, конкретное содержание христианства изменено, и что эллинизация Евангелия означает отступничество от Евангелия Нагорной проповеди.
Эти историки догматики видят процесс развития, уже происходивший в раннем христианстве, – переделку Евангелия Иисуса в паулинизме.
Согласно этой точке зрения, догматика и теология возникли на греческой почве. «Грек, – замечает Э. В. Добшютц,160 – должен мыслить систематически, он должен понимать все из одного принципа, он должен связывать все отдельные догадки воедино.
Таким образом, только на почве гречности возникает актуальное богословие…… Простая вера была преобразована в сложные философские спекуляции. Одна из самых интересных задач в истории догматики – проследить, как приходится использовать платоновские и аристотелевские формулы, чтобы сделать природу Иисуса понятной, как эта древняя христианская теология беспомощно колеблется туда-сюда между идеей высшего вдохновения человека и идеей воплощения божественного существа, просто потому, что она не в состоянии осмыслить великую тайну: Бог был во Христе, кроме как в физических категориях».
Согласно Харнаку,161 «догматическое христианство (догматы) в его концепции и развитии – это работа греческого духа на основе Евангелия; концептуальные средства, с помощью которых Евангелие пытались понять и утвердить в древние времена, были слиты с его содержанием». Харнак 162также указывает на этапы этого превращения раннего христианства в христианство богословия и догматики. По его словам, апологеты II века «основали философско-догматическое христианство благодаря своему интеллектуализму и исключительному доктринерству».
Такого же мнения придерживается и Луфс,163 по мнению которого «апологеты заложили основу для превращения христианства в явленную доктрину». Р. Сиберг 164отмечает, что «проблемы, заложенные в формуле „fides et ratio“, уже во II веке с внутренней необходимостью развивались в теологии, поскольку ratio заняло место πνευμα [пнэўма] и было сохранено, хотя позитивизм и сопротивлялся этому».165
Продолжая прослеживать развитие этой переоценки христианства в догматике и богословии, Харнак видит «в Мелито, Иренее, Тертуллиане, Ипполите и Новациане начало церковно-богословской экспликации и обработки правила веры в противовес гностицизму на основе Нового Завета и христианской философии апологетов», придумывая здесь «соединение рациональной теологии с церковной верой, антигностическую церковную спекуляцию».
По мнению Харнака, Климент Александрийский и Ориген в конечном итоге «привели к превращению церковной традиции в философию религии и, таким образом, к зарождению научного богословия и догматики.166
Если мы теперь прокомментируем эти взгляды, которые учат противопоставлять евангельское христианство спекуляции и интеллектуализму 167и таким образом связывают схоластический метод, даже в его ранних формах, с переоценкой и существенной реорганизацией христианства, то мы, конечно, не можем обсуждать здесь все соответствующие проблемы истории догматики; скорее, мы можем только подчеркнуть те аспекты, которые важны для доказательства зародышей схоластического метода в христианской древности.
Прежде всего, следует отвергнуть как неверное утверждение, что христианство Священного Писания – это нечто совершенно далекое от понятийного мышления, что оно ни в коей мере не обращено к интеллекту, что оно само по себе не имеет характера откровенного учения, а является лишь опытом и носит исключительно практический характер. Помимо практических наставлений по достижению спасения, Священное Писание содержит множество теоретических положений, обращенных к разуму: учения об отношениях между Богом и миром, о загробной жизни, о личности Спасителя, о грехе и искуплении и т. д. Христос называет Себя учителем, а Своих учеников – учениками.
Учение Христа упоминается в Евангелиях и других книгах Нового Завета. Практические наставления и предписания Христа также предполагают теоретические суждения. В Павловых посланиях мы находим зачатки умозрительных рассуждений и аргументации.168
В свете этих фактов понятно, что отцы и схоласты неоднократно обращались к отрывкам Священного Писания в своих попытках понять содержание и контекст веры. В этом смысле особенно часто упоминается отрывок Ис 7, 9 в переводе Септуагинты: Εαν μη πιστευσητε, ουδε μη συνητε [эан мэ пистэўсэтэ, удэ мэ сюнэтэ] (nisi credideritis, non intelligetis).169 Схоласты предпочитают цитировать паулинские тексты, такие как Тит 1, 9; 2 Кор 10, 5, в качестве принципов для богословской научной работы.170 Определение веры в Евр 11:1 стоит во главе богословских сумм как руководящий принцип и стандартизирующая основная идея;171 ряд изречений Павла служит девизом для прологов комментариев к афоризмам и встречающихся там попыток более или менее обширной богословской вводной доктрины.172 В отношении использования языческой литературы, особенно языческой философии, средневековые мыслители ссылаются на пример святого Павла, который цитирует языческих авторов (Деян 17:28. 1 Кор 15:33.
Тит 1, 12). Например, Роберт Мелунский 173опирается на пример святого Павла для доказательства предложения: «Quod licet veritatem undecumque sumere ad eorum confirmationem quae in Sacra Scriptum sunt docenda»: «Quod vero ita sit, auctoritate apostoli Pauli manifeste monstrari potest. Ipse enim in epistola ad Titum auctoritate cuiusdam Epimenidis poetae ostendit quae Cretensium natura esset… -.
Apud Athenienses etiam de ignoto deo disputans suae praedicationis fidem faeit auctoritatem cuiusdam Arati inducens……
Ex his, ut dixi, patet quae vera sunt undecumque licere sumere ad confirmationem veritatis doctrinae christianae. u Схоласты также ссылаются на павлинские модели богословского умозрения, на выведение одной истины из другой путем умозаключения. Фома Аквинский, например, цитирует в этом смысле 1 Кор 15, где апостол доказывает уверенность в воскресении мертвых на основании воскресения Христа.174
Учитывая погруженность схоластических мыслителей в Павловы послания,175 вполне можно объяснить влияние паулинской мысли на представление ведущих схоластов о цели и методе работы богословской науки. Поэтому в определенном смысле верно замечание Пикаве:176 «La philosophie theologique du moyen-äge commence au 1er siecle avec saint Paul, chez les chretiens». Отрывок 1 Петра 3:15: «Parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea, quae in vobis est, spe» также неоднократно используется как Отцами, так и схоластами для обоснования диалектического подхода к содержанию откровения. Этот отрывок стоит во главе «Summa Sententiarum» Гуго Сен-Викторского.
После этого отрывка 177святой Бонавентура замечает: «Cum ergo multi sint, qui fidem nostram impugnant, non tantum rationem de ea poscunt; utile et congruum videtur per rationes eam astruere et modo inquisitivo et ratiocinando procedere.»
Руководящие идеи для систематики и архитектоники средневекового богословия также черпались из Священного Писания. Например, Ульрих фон Страсбург видит набросок общей теологии в прологе Евангелия от Иоанна: «Theologus Ioannes summatim in principio sui evangelii perstringens primo agit de deo secundum se cum dicit: «In principio erat Verbum» et adiungit de ipso tractatum in quantum est principium cum dicit: «omnia per ipsum facta sunt1 et complet tractatum in opere redemptionis, per quod hoc principium nos in se reducit, cum dicit: «fuit homo missus a Deo».178
Сам св. Фома Аквинский вычитывает в посланиях св. Павла определенный систематический порядок и единство. Темой этих посланий, как он объясняет во введении к своему комментарию к св. Павлу, является благодать, которая допускает троякое понимание. Благодать, в той мере, в какой она находится в главе, то есть во Христе, является главной идеей послания к Евреям; благодать, в той мере, в какой она находится в более выдающихся членах мистического тела, составляет тему посланий к Тимофею и Титу. Благодать, в той мере, в какой она находится в самом мистическом теле, составляет основную идею посланий Павла к язычникам с различных точек зрения. Эти соображения должны показать, что утверждение о принципиально антиинтеллектуальном характере евангельского христианства необоснованно и неверно и что схоласты черпали многие вдохновения, богатство точек зрения и лейтмотивов для своего интеллектуализма, для своего метода именно из Священного Писания.
Вывод, сделанный из якобы антиинтеллектуалистического характера христианства в Священном Писании, о том, что конкретное содержание христианства претерпело изменения благодаря использованию греческой философии, будет лучше всего рассмотрен, если мы сначала приведем более принципиальное соображение, а затем общее историческое обсуждение.
Из доказательства того, что христианство Священного Писания не противоречит интеллектуализму, что оно не просто опыт и практическое наставление, но и доктрина, с несомненной последовательностью следует, что концептуальная версия содержания христианства, спекулятивное углубление в контекст и следствия теоретических доктрин, содержащихся в христианстве Священного Писания, вполне может быть достигнута без необходимости существенной переоценки содержания христианства.
Ибо если христианство – не просто практический опыт, а откровенное учение, обращенное к разуму, то понятно, что человеческий дух стремится и может впитывать таинственные идеи и необыкновенные факты христианства и постигать их по мере возможности. Человеческий дух имеет стремление и возможность постичь истинный и подлинный смысл отдельных теоретических идей христианства и выразить этот смысл в соответствующей форме, в соответствующих терминах. Возможность разума, просвещенного верой, постичь подлинный смысл истин откровения кроется в природе откровения и веры. Откровение – это именно божественное сообщение сверхъестественной истины человеку, и поэтому оно также требует возможности правильного понимания человеком этой истины. Точно так же вера была бы невозможна, была бы бессодержательным актом, если бы открывшуюся истину нельзя было распознать и постичь в ее правильном смысле и отличить от ошибочных утверждений.
Более того, человеческий дух стремится глубже проникнуть в таинственные истины, с которыми он сталкивается в христианстве. Хотя это сверхъестественные содержания, внутренняя возможность которых не может быть аподиктически доказана, и хотя это таинственные истины, которые даже человеческий дух, облученный светом веры, не в состоянии адекватно постичь, человеческий разум хочет глубже проникнуть в эти истины, несмотря на их сверхразумный характер, а точнее, именно из-за него, Он хочет проследить эти истины в их последствиях, оценить их в их применении и значении для жизни, он хочет прояснить эти истины для себя и приблизить себя к мышлению через сравнение с другими истинами, которые достижимы с помощью простого разума. Таким образом, достигается рациональное понимание содержания откровения, не лишая его сверхъестественного, таинственного характера.
Человеческий разум требует связности, единства, гармонизации многообразного и разнородного; в человеческом духе есть тенденция к обобщению и представлению отдельных мыслей в целом, тенденция к систематике. Христианство Священного Писания не предстает перед человеческим разумом как формальная система истин, не как богословская система, но человеческий разум, углубляясь в содержание откровения, находит многообразные связи, обнаруживает возвышенные места, из которых поле идей и фактов христианства может быть рассмотрено как единство, как целое. При более интенсивном погружении в истины, факты, а также практические правила христианства, христианство Священного Писания откроется изумленному духовному взору как таинственный организм сверхъестественного, как величественная христоцентрическая система, как единство и порядок, полный живых связей и самой возвышенной телеологии.
Однако в этом исследовании христианства Священного Писания человеческий дух столкнется с возражениями и трудностями, возникающими отчасти внутри него самого, отчасти – извне, а именно от противников христианского мировоззрения. Почва, из которой вырастают эти возражения, эти трудности мышления, – это, как правило, область естественного знания. Чтобы разрешить эти возражения, прояснить эти трудности, человеческий дух, ищущий истину и руководствующийся светом веры, считает себя вынужденным соотнести содержание Откровения с теоретическими представлениями, полученными посредством простого разума и одновременно являющимися отправной точкой для разрешения возникших трудностей.
Именно через такое сравнение истин откровения с естественными истинами интеллект сможет показать, что выдвигаемые возражения либо не вытекают из надежного естественного знания, либо не находятся в явном противоречии с правильно понятой христианской истиной.
Из этих рассуждений можно сделать вывод о трех полюсах.
Пока что должно быть ясно, и это основано как на природе христианства Священного Писания, так и на природе и психологии человеческого мышления, что интеллектуалистическая и спекулятивная апперцепция содержания христианства может быть предпринята человеческим разумом без того, чтобы обязательно привести к переоценке этого конкретного содержания христианства. Такая переоценка, конечно, возможна в отдельных моментах и у отдельных мыслителей, и она действительно имела место, но для человеческого мышления как такового и для совокупности всех тех, кто осмысляет содержание христианства, такая специфическая реорганизация его отнюдь не является необходимой. Следовательно, интеллектуалистическая концепция христианства вполне возможна и без такой трансформации. Католическая доктрина «consensus unanimis patrum» и «magisterium ecclesiae» гарантирует, что концепция библейского христианства всей совокупностью Отцов Церкви и формулирование христианства откровения в догматах Церкви происходили или происходят без такой трансформации и переделки содержания первоначального христианства.
Во-вторых, из вышеприведенных соображений следует, что основные функции схоластического метода приводятся в движение подходом человеческого духа к христианству, т. е. то, что составляет действительную сущность, действительное ядро схоластического метода, основано на отношении человеческого духа к сущности христианства.
Поэтому мы априори вправе проследить следы этого метода с самых ранних времен христианства, даже если он приобрел твердые очертания и определенные формы только с течением времени. В этом смысле кардинал Ньюман,179 которого ошибочно пытаются поставить в фундаментальное противоречие со схоластикой, замечает следующее: «Я считаю, что католическая школа мысли постепенно и с течением времени приняла определенные формы и очертания, приобрела вид науки со своим собственным методом и языком, под духовным руководством выдающихся людей, таких как святой Афанасий, святой Августин и святой Фома, и я не испытываю желания разбить на куски великое интеллектуальное наследие, переданное нам в этот поздний период.»
Наконец, третье следствие из вышеприведенных принципиальных соображений заключается в том, что философия играет определенную роль в приближении содержания откровения к человеческому духу и в интеллектуалистическом погружении человека в это содержание откровения. Ибо ясное понимание и изложение истинного смысла содержания откровения, отграничение этого истинного смысла от ложных и неясных идей, разъяснение этого сверхъестественного содержания с помощью естественных истин, постижение следствий и связей тайн христианства, словом, более глубокое проникновение в христианство Священного Писания невозможно без систематического использования философских средств, точек зрения и результатов.
Однако если это использование философских средств должно происходить без изменения содержания христианства, то эта философия, используемая для разъяснения, систематизации и защиты христианства, не должна в корне противоречить самому христианству в его основном направлении; напротив, она должна быть в целом в пользу христианства или, по крайней мере, быть в состоянии настроиться на него. Выражаясь схоластическим языком, эта философия должна обладать «потенциальной способностью» (potentia oboedientialis) для использования на службе христианству. Поэтому очевидно, что христианство не может вступать в союз с любой философской системой, и в первую очередь с исключительно субъективистской философией, отвергающей всякую метафизику, поскольку это поставит под угрозу объективность содержания откровения и подвергнет личность и учение Христа водовороту быстро меняющихся модных философий. Как уже говорилось, только такая философия может рассматриваться для использования в служении христианству, которая соответствует общим убеждениям человеческого рода и поэтому имеет характер непреходящего и вечного, философия, которая может быть естественным фундаментом и подструктурой для возвышенных сверхъестественных содержаний и идеалов христианства, которая не колеблет объективности содержания откровения и способна излагать, осмысливать и защищать идеи христианства, не перекраивая их по содержанию и внутреннему содержанию. Разумеется, такое использование философии для целей христианства требует очищения данной философской системы или систем от ошибок и вообще многократной реорганизации и адаптации философского материала. Наконец, очевидно также, что философия будет тем более полезна, если она содержит множество форм, терминов и т. д., в которые можно вписать содержание христианства, не подвергая его изменениям.
Если, исходя из этих общих соображений, подойти к освещению вопроса об отношениях между христианством и греческой философией и встать на точку зрения рационалистической истории догматики, утверждающей, что конкретное содержание христианства было изменено использованием греческой философии, греческим интеллектуализмом, то это утверждение уже в корне отвергается опровержением утверждения, что христианство Священного Писания имеет антиинтеллектуалистический характер. Это утверждение становится еще более несостоятельным, когда мы рассматриваем мотивы, цели и способ этого использования греческой философии. Прежде всего, здесь речь идет о первых истоках и началах использования греческой философии на службе христианства, поскольку они имели решающее значение для всей патристики, а косвенно и для схоластики.180
Множество внешних факторов привлекло внимание христианской античности к греческой философии на ранней стадии. Например, цель доктринального обучения и религиозного воспитания требовала логической и языковой формулировки, а также четкой группировки христианских учений.
Распространение христианства за пределы Палестины вскоре привело к контакту с образованными и учеными греческими кругами. Обращение образованных греков и римлян, даже греческих философов, в христианство предполагало сближение, сопоставление греческой, прежде всего платоновской, философии и христианского мировоззрения. В мышлении такого философа, ставшего христианином, должны были в более или менее выраженной форме проявиться как моменты единства, так и различия между христианством и греческой спекуляцией. Кроме того, появление ересей, в которых христианские идеи смешивались с иудейскими элементами, а также с идейными направлениями греческой философии, образуя синкретическое целое, вызывало споры между учителями и защитниками христианства и греческой философии, рассмотрение того, что в греческой философии было в пользу и что против христианской доктрины. Особенно перед лицом гностицизма, который учил карикатуре на христианство через нездоровую смесь философско-мистических спекуляций с христианской мыслью, было уместно использовать греческую философию в надлежащих пределах, чтобы достичь более глубокого понимания откровения, чтобы достичь истинного христианского гнозиса.