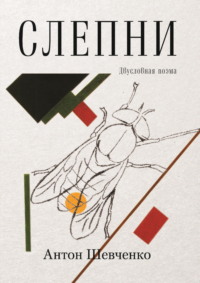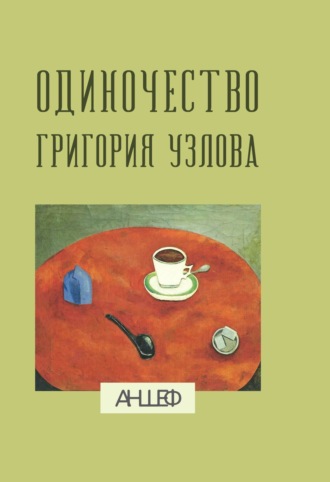
Полная версия
Одиночество Григория Узлова: повесть суждений
Есть ли лекарство от одиночества, что изничтожит тоску и дурман серой мрачности? Первое, что вертится на языке, – любящий человек, тот, кто будет уважать и понимать с полуслова. Но просто ли обнаружить его в суетной спешке мироздания, среди пространства теней и силуэтов? Задача, увы, не из лёгких – такого в учебниках не пишут, больно трудна, и менторов не сыскать, одни профаны вокруг. Да и не только в этом соль, но и в том, что родную душу в гиблом болоте не распознать: можно долго бродить впотьмах, аукать, подзывать, да потонешь, увязнешь только, а руку если кто подаст, то в насмешку – за пазухой бревно заготовлено, чтобы по темечку треснуть – захлебнёшься поскорее и будет тебе, небо уже изрядно прокоптил, довольно с тебя, нечего кислород расходовать, с другими поделись – пуще тебя они достойны его. Так и заканчиваются в обыденности «любовные» истории: нет тебе и свадеб богатых, и поцелуев страстных, и сердечек с надписью «Конец», такое в кинематографе только и творится – незачем и воздушные замки строить.
Любовь – материя неоднозначная, непосильная по возможностям людским, единицам она поддаётся, посему на воле мало кто ходит благодаря любви, и завистливо смотрят на них из-за решёток отщепенцы и страждущие, довольствующиеся хлебом чёрствым и водой из-под крана! Не сбежать им от стражников уродливых и жестоких, что ежесекундно бдят за арестантами, преступление которых заключалось лишь в мягкости и неготовности столкновения со злом. Камеры в тюрьме той большие, предоставляют иллюзорную свободу передвижения и существования – неизвестно, чья рука сотворила гениальные творения эти, которые вызвали бы зависть любого диктатора по причине удобства и функциональности, однако темницы не зависят от людей, хоть при власти, хоть без неё: они существуют вне времени и пространства. Как человек родился, так и водрузился камень на камень, здание новое рождая, глазу невидимое, но душой и разумом чувствуемое щемящим ноктюрном скрипок из костей, играющим в ушах жертвы, избранной неведомым тюремщиком для пленения.
Второй вариант побега от одиночества – его же следствие, что обернуться может и спасением. Это мечтания, уход в область непостижимого и недостижимого, дарящий чувство соприкосновения с чем-то значительным, близким по масштабу со вселенским. Человеческий дух поднимается на глазах, обретает крылья и возносится к высотам неизвестного, где даруется ему близость к прекрасному и наделяется он талантом и видением художника. Благодаря грёзам люди становятся писателями, поэтами, музыкантами, а каждый истинный мастер соединяется с подсознательным, творит до изнеможения, сгорает, но живёт, а не существует. Это счастье – жить, когда понимаешь это, то нет места одиночеству, оно бессильно против лазоревой брони художника. Прочь, демонические скрипачи пессимизма, изыдите, грязные черты скотства, да исчезнет тьма и зальётся светом простор, от востока до запада, от севера до юга! Каждый поклонится чуду, и не найдётся того, кто не бессмертен, – жизнь не закончится для них крышкой гроба, они и далее будут на устах и в пространстве, но в иных качествах: как могучие духи, следящие не оком надзирателя, но взглядом добрым и мудрым, направляющие человека на путь правильный, если сходит с него!
Однако не так просто всё с мечтаниями: многое зыбко вследствие непрочности человеческой психики, если и попадающей в мир великих видений, то возвращающейся оттуда полуживой и надломленной от обилия непонимания, – только крепкий мозг способен выдержать нагрузки такого своеобразного космоса. Не всякому дано вкусить бессмертие, терниста дорога к нему, не сдюжишь – погибнешь безвозвратно, для Вселенной имя твоё станет междометием, тебя забудут все близкие и родные, и ещё страшнее, что сам себя потеряешь, и суждено будет бродить духу твоему в неведомом лимбе меж параллельными мирами, что вход имеет, а выхода никогда и не видели.
Важным свойством выдуманных нами грёз должна быть призрачная, даже невидимая связь с реальностью; она в любом случае обязана возникнуть, иначе жизнь теряет смысл – человек утрачивает ориентиры, нечего тогда и далее глядеть на небо и солнце. Это не свобода, а очередной тупик, подстроенный неведомой рукой, как и многое в нашем бытии. Нельзя говорить о хаосе здесь, поскольку всё в мире обладает логикой – если не видно её, то не означает это её отсутствие, поэтому все духовные препятствия и пропасти выстроены в определённой последовательности. Оптимист воскликнет, что видит лестницу в облака, где никогда не гаснет свет. Пессимист пробормочет, что смотрит на спуск в адское пекло с поджидающими казнями и мучениями. Каждый из них прав и неправ одновременно, потому что всё зависимо от субъективного восприятия: для кого и Тартар представится Елисейскими Полями и наоборот.
Тогда, если возникает понимание относительности, то и то, о чём повествую, в других мнениях будет иным, отличным от моего, вероятно, и в лучшую сторону по причине моего мрачного взгляда на многое, хотя не исключено, что некто может и более моего ужасаться жизни, протекающей мимо нас зыбучими песками из часов. Однако исход такой менее вероятен, чем глуповатый оптимизм, поскольку то, что я подразумеваю под серостью и убогостью, будет вбиваться остальным как нечто прекрасное и обольстительное, хотя тот, кто работает молотком, не догадывается, что не внушает благоговение перед пустотой, а вгоняет гвозди в светлую шкуру древесины новенького гроба вследствие попадания его несуразных мыслей в мыслящие головы, которые, используя нехитрые умозаключения, разобьют идеализм излишне улыбчивых и счастливых господ в пух и прах. Так и погибнет радостно-восхитительная концепция понимания бытия. Я не хочу сказать, что мир всегда был мерзок и отвратителен, я не был в прошлом, но то, что стоит перед глазами моими, стоит в настоящем, никак не может вызвать отрады. Это постоянно вводит меня в состояние лёгкой непрекращающейся депрессии, временами нашёптывающей о самоубийстве, но я, вероятно, писал ранее, что это не выход.
Мне трудно писать эти рукописи, даже отчасти больно, но если я не буду выводить всё на бумагу, то станет намного хуже. Описанием своих терзаний и мук я стремлюсь избавиться от них же; я ещё и давно одинок, поэтому многие проблемы не с потолка взяты, а выведены из самого существования, которое влачу. Сколько раз я был бит судьбой, оплёван и выкинут из древних снов, и не сосчитать вовек. В отличие от большинства я не тешу себя иллюзиями, потому что они давно выцвели, как старые фотографии, да и из ползунков уж сколько лет назад я вырос, чтобы наивно вглядываться в природу и проходящие мимо лица. Я горестный вольнодумец, чьи фантазии и полёты мысли даруют мне не только свободу от оков повседневности, но и тягость от бренности всего сущего. По паспорту я молод, но внутренне чувствую себя старцем перед смертью, настолько всё тяжко и подводит к дурному окончанию спектакля, что называем жизнью.
Но я должен, должен поделиться с другими собственными ощущениями, чтобы люди вздрогнули – как они существуют, допуская такую вселенскую гадость, разъевшую окружающее, чтобы некоторые закричали, заплакали, умылись пеплом и возмутились сегодняшним порядком. Им необходимо взяться за руки, это очень важно, потому что поодиночке каждого передёрнет одной левой, и пошли строить против бытия во всех аспектах, от малых до больших, сотрясли его мерзкие основы и устои, сокрушили тюрьмы одиночества, освободили заключённых, дав то, чего столько лет они просили, – истинную свободу, без лжи, демагогии и ораторской фальши новоявленных Цицеронов, которых развелось превеликое множество и по уровню своему совершенно далёких от римского аналога, и все вместе начали сооружать новое, блистающее всеми цветами радуги будущее, такое, какого заслужил каждый, претерпевший муки сегодня.
Мы стоим перед чем-то неизвестным и пугающим, каждый в какой-то степени ощущает это. Даже сама жизнь в социально-экономическом плане замедляется, затухает, ухудшается – чувствуется спад, обнищание народных масс, закрытие магазинов, ресторанов. В воздухе веет смутой, но насколько дух её сможет материализоваться – вопрос нелёгкий, аналогично, как и когда это случится, но не сомневаюсь, что в той или иной форме беспорядок вторгнется в наше существование; ничто и никто это не изменит.
11
Электричка громыхала своими колёсами, медленно, но верно приближая мою остановку. Взгляд скользил по оконным видам в поисках чего-то удивительного и прекрасного, но громады жилых и нежилых построек, а также замусоренные пустыри корчили свои неопрятные рожи в обезьяньих гримасах. Будто они нарочито издеваются над моей потребностью хоть визуального соприкосновения с чем-то относительно красивым и харизматичным.
В отдалении шарахались неуверенной поступью замученные старухи, работяги да и просто люмпены всех мастей – наша земля любит породу эту за злобную юродивость, далёкую от той божественной близости, что обычно приписывалась ей. А как Гришка Узлов удосужился написать, что Россия обожает странноватых босяков и бродяг? Она же мать наша, то есть, как и всякой женщине, России хочется достойных детей, чтоб перед другими показать, похвастаться: мол, дивись, оставшийся шар голубой, кто уродился – богатыри, мудрецы и цари, достойные люди, пусть всякий завидует, хоть пиндос, хоть лях, хоть чухонец. Оговорюсь, не оскорбляю я народов Америки, Польши и Финляндии, но поскольку Русь-матушка – душа простая, почти деревенская, к архаике близкая прошлых эпох, то и лексикон соответствующий, не обессудьте, возможные читатели из трёх стран выше. Но вернусь к тезису о юродивых: что же они, такие убогие и придурковатые, в почёте большом в глазах России. Ответ очевиден и банален: куда ни глянь – везде шатаются, лезут, как-то крутятся, вертятся, все условия для них готовятся, причём давно – больно любы чудачки с тараканьим душком.
А как они управляются? Видано ли дело, чтобы Господь стадо послушнее подсунул? Соберутся где-нибудь на площади и скандируют: «Вон царя, генсека, президента, надоел вусмертину!» Ещё различаются промеж собой на старых юродивых и молодых юродивых: первый подвид более злой, второй более тупой, вот и все отличия. Обязательно пред ними всплывёт чиновничья туша или целый властитель, окатит их словцом красным как холодным душем, покажет, где виновный всякий в их горестях-несчастьях, прикажет камнями закидывать – исполнят овечки волю пастыреву. После упражнений с метаниями твёрдых предметов народ успокоится, замолкнет и не будет пока рты открывать против чего-либо – энергию и пыл сбросили, надобно ещё накопить, поэтому надо где-нибудь обязательно собираться, хоть на кухне бабы Мани, хоть в интернет-сообществе, хоть в комментариях пожужжать, поворчать, чтобы новый повод в голове родился. Так и существует наше славное гражданское общество на юродивых, воспетое во многих речах и статьях, но так и не возникшее на русских бескрайних просторах.
Однако в некоторое оправдание нашего народа напишу, что число бестолковых крикунов не так изрядно и велико, как померещится на беглый взгляд. Народное большинство тихо страдает и умирает в своих комнатушках, не взирая, кто «великим кормчим» провозглашён на этот раз, – своих проблем хватает, ещё и подмечай, как очередной деспот, командуя, руками изрядно жестикулирует подобно мартышке из джунглей и слюной брызжет, кидая многозначительные фразы в толпу зевак. Я уже упоминал об особом тяжёлом пути России – и в этом он тоже проявляется, как ни крути и ни смотри на происходящее, всё говорит само за себя.
А какова «маниловщина», характерная для любых вертящихся в политике прихвостней и подонков? Как печётся всякий «вышедший из народа» о благосостоянии, о сильной стране, одновременно распихивая по чемоданам и авоськам украденные миллионы и миллиарды? Отдельное соревнование совершается промеж депутатов и прочих власть имущих за то, кого выберут более убедительным и обстоятельным в выражении бурных негодований по поводу «ужасающей коррупции, сродни терроризму и подрыву государственных интересов», хотя вопящего и следует рассматривать как будущего просиживателя штанов в зале суда и тюрьме, но когда справедливость восторжествует? Да никогда, наивные вы дети! Правосудие бессильно по причине нахождения в той же разлагающейся зоне взяточничества. Вероятно ли, что вор осудит вора? Возможно, если украдены копейки, таких не любят и не уважают, и сажают в казематы, оповещая публику о «раскрытой коррупционной схеме». Вор никогда не сядет за решётку при условии грандиозности и серьёзности аферы – такой человек уважается, ему оказывается почёт, что талантлив, стерва, голь на выдумку хитра, как деньги стащить, чтоб не заметили. Если украл целые гектары плодородных земель, то пожмут тебе руку, примут в общество влиятельных и состоятельных хозяев жизни; если с голодухи, ради семьи срезал пять колосков на прокорм, то сразу к стенке приставят как несчастного плебея и босяка.
Я задумался об одной моральной дилемме: а не честнее ли будет молчать и воровать, чем болтать и хабар получать? Зачем плодить лишнее ханжество в нашем искусственном мире масок и фальши, это как бритва Оккама, только в области этики и совести. Люди с некоторым удовольствием отнесутся к подобному деянию – прав мужик, честно и прямо берёт и крадёт бюджетные и народные деньги без интеллигентных несуразностей, что так раздражают массы сограждан. Подлец станет открытым, ничто не будет сковывать его, кроме молчаливого возмущения многих, ну хоть не будет презрения за лживость, всё же прямо и никто ничего не скрывает.
Удивительно, но лучшее средство для распила средств – разнообразное прожектёрство, рисующее юдоли, близкие к детсадовским каракулям: солнышко, облачка, мама, папа, я – вместе мы счастливая семья! Один вариант звучит утопичнее другого, каждый обещает скачкообразный рост всяких богатств, кто-то более правдоподобный, кто-то более лживый, не в этом суть. Чей где родственник, знакомец или любовник – вот движущая сила телодвижений в верхах, понятно связанных с коррупцией. Обидно, что хотя бы за что-то дельное на бумаге агитировали бы – нет, лишь бы чушь выдать на-гора и успокоиться, как будто со стороны никто не въедет в бездарность проекта, настолько уверены в своей непогрешимости и в своей хитрости. Хрустальные мосты через реку выглядят реалистичнее многих сценариев, на которые, отмывая деньги, правительство выделило и выделяет непомерные суммы, раздавая своим людям, всячески продолжая и далее глумиться над честностью и настоящим патриотическим долгом, что давно стали причиной насмешек большинства здравомыслящих граждан.
Но довольно пока что говорить о богачах, пусть подавятся своим несметным золотом, которое проклято многими, от мала до велика, лучше вернёмся в нашу простую, непритязательную и страшную жизнь. Я сижу, окружённый неизвестными, один другого лучше. Вот предо мной почтенный, с усами и в очках, наружность интеллигента, ничего дурного не скажу, но как-то отодвинулся случайно рукав куртки с запястья его, и вижу корону – татуировку, выбитую будто тюремным мастером – краска тёмно-зелёная, подыстёртая, для уголовников характерная. Я слегка струхнул, но быстро одумался: чего дрожать, если это вор обычный, а если и убийца, то как он сможет совершить преступление в забитом людьми вагоне, где столько глаз, столько свидетелей, просто невыгодно хоть обокрасть, хоть отправить на тот свет, но всё равно я вознамерился посматривать хоть слегка за криминальным стариком.
Рядом со мной пребывают два мужика, не знаю, являлись ли они гостями наших раскинутых по Северу и Уралу колоний, но рожи их пренеприятны и доверия не внушают, особенно когда лыбятся кривоватыми и несильно чищенными зубами. Они либо сослуживцы, либо собутыльники, либо одновременно и то и другое. Один из них, синяя куртка, давится вокзальной шаурмой, бурно смеясь над скабрезностью своего товарища, красной куртки, попутно заливая в пасть немного колы из пол-литровой бутылки. Второй чуть спокойнее, глазки так и шныряют по окрестным физиономиям по неизвестной причине, кажется, что какой-то полумёртвый шакал поглядывает на добычу Опасный тип, я скажу, эта красная куртка, не то что громогласный «браток», синяя куртка, у которого что на уме, то и на языке, – исподлобья и зло сверкает тяжёлым буравящим взглядом красная куртка, даже на меня косится, не знаю зачем, что ему нужно, отвернись, не трогай меня, слушай приятеля своего и на других не пялься.
Но он не перестал озираться, красная куртка настойчиво продолжала гляделки, цельно или бесцельно, однако всё-таки угомонился: ему захотелось прикорнуть, что с удовольствием и совершил, откинувшись назад на неудобную лавку, но через несколько минут озарившись гуимпленовской улыбкой, видать, приятственное разглядел в сновидениях – даже жутковатым типам они приходят и умеют радовать жестокосердечных. Синяя куртка, отдышавшись после полуистерики, вызванной одним скверным анекдотом, что в любом обществе будет описать возмутительно и некорректно, мерно, как корова траву, дожёвывал свою отвратно выглядевшую шаурму, чей соус размазался по его полноватым губам и грозился стечь прямо на небезызвестную синюю куртку. Наконец, покончив с трапезой, субъект дососал газировку, как-то вытер остатки еды со своего лица и начал посапывать, клонясь от сытости в сон.
Ну, хоть они угомонились, не раздражают, да и «бывалый урка» вежливого тона впёрся четырьмя глазами в окно, словно ожидая увидеть просторы Байкала на месте приевшегося Подмосковья. Как замечательно, что никто сегодня не бузит и не мешает доехать мне без проблем до дома, обычно такой тишины не добиться по той причине, что каждый часто норовит пошуметь со скуки, с работы едут, устали, вот и отдыхать громким разговором изволят, как будто никого не раздражает его бессмысленный трёп, напоминающий диалоги из «Голой певицы»[4]. Прилично мест ещё осталось, которые можно описать, повествуя о вечерней электричке, выступающей как отдельная и уникальная среда ещё с Венички Ерофеева, но вынуждая, к несчастью для некоторых читателей, но к огромной радости для себя, проститься с поездом, поскольку заморгал фонарями мой родной город. Прощай, электричка, ни пуха тебе, довози всегда пассажиров вовремя и без задержек, чтобы не плодить недовольство и ненависть! Прощай, мерный стук колёс, что мог убаюкать не одного меня, а целые вагоны! Скоро увидимся, а теперь мне надо выходить из относительно тёплого пространства прямо в объятие холодной ночи.
12
Маски, пустые лица толкались, тесня друг дружку на края платформы, будто желая сбросить кого-нибудь на рельсы. Они давно стали жестокими, поэтому ничего удивительного в этом и не виделось, привычные картины привычной жизни. От масок стоял шум и гомон, как на воскресной ярмарке.
Но среди мечущихся в броуновском движении теней было место и некоторым ярким краскам – напоминало желание Подмосковья козырнуть, а может, и переплюнуть Москву в суетности. Неспящие по ночам буквы торговых лавок так и сияли: Сыры, Мясо, Рыба, Овощи, будто маяки промеж бушующих волн в ожидании заблудших кораблей. Деляги верили, что чем больше бросается надпись, тем скорее потекут скупать товар, заботливо расставленный на всеобщее обозрение, дабы ничей взгляд не упустил и крошечной булочки или неприглядной вырезки при окидывании прилавка. Всякий коммерсант, назвавшийся фермером, регулярно вставляет в каждую фразу (даже если речь о его тяжкой доле, об особой страстной любви к земле) заграничные словечки «био» или «органик», что, с его точки зрения, даёт право нахально драть цены на продукты. Да, нагло, но кого на Руси что-то похожее останавливало или сдерживало? Здесь снова пробуждается, материализуется тот вороватый тип русского крестьянина, который поражал скаредностью и особой силой стяжательства, вызывал ненависть деревенской бедноты и батраков, что в озлоблении окрестили его «кулаком». Я не пишу о преступности накопления богатств в нашем селе, но было разное, было всякое: наравне с истинными тружениками, кто потом и кровью орошал родную почву, жили вороватые нахалы, обирающие соседей, люди, на словах представляющиеся первыми, а в сердцевине – братья тех торговцев, которых Иисус изгнал из храма Божьего. Они до сих пор живы, только не косоворотку рвут, а фермерами называются в наши дни. Но мудрые видят плутов издалека, поэтому не так карманы тугие забиты у мошенников, хоть где-то есть маленькие капли справедливости.
Но всё-таки знаки торгашей – не основное украшение вечера, хоть и безобразного в пределах города. Среди злобы и скуки находится место и волшебству, что всегда рождается нежданно-негаданно и дарит неслыханное счастье каждому увидевшему. Я разглядел снег, который давно ждал и более не мечтал ощутить на своих щеках! ОН был чист и белоснежен, как ангельское крыло, и медленно спускался на грешную землю, выдающую нам грязь и похоть. Снег надеялся прикрыть хрупкими звёздочками коричневость запачканных дорог, но слишком большим он оказался идеалистом – снежинки падали и разбивались в хлипкую кашицу под моими ботинками. Я не хотел смотреть вниз, потому что мне было противно и помыслить о разбитой красоте и гармонии. Я высоко задрал голову и вперился в узорные комочки зимы – они вселяли покой и надежду своими умиротворёнными движениями. Я забывался, переставал ломать голову над неприятностями, думая о снеге. В ушах звучала великая Ave Maria Шуберта, выше гомона и толкотни моего окружения, она прекрасно вписывалась в танец снега над мрачностью бытия. Хоть что-то прекрасное я почувствовал за последние дни, дух мой снова проснулся в ожидании грандиозного и значительного – надежда забрезжила как рассвет после долгих полярных ночей. Зимой снег – её главное обаяние, влюбляющее в себя с детства, всерьёз и надолго, это для прекрасного, вышедшего из природы.
Обсыпанный хлопьями, под аккомпанемент Ave Maria поплёлся к турникетам. Люди начали жутчайшую давку, протискиваясь в узенькие проходы, – ничто не отличалось от столичной подземки, такая же агрессивность и злость, если не более, поскольку в воздухе разливался приближающийся аромат домашнего быта, пьянящий сердца не хуже самогона. Здесь было что-то сродни хищнику, почуявшему добычу, которую гнал он столько часов по необъятным степям, быстроногую лань или антилопу, например, что внешне отличается статностью, а внутри вкусна, как лучшее блюдо из ресторана четырёх звёзд «Мишлен». Я не был исключением, меня охватывало всеобщее буйство и возбуждение, но я мнил себя человеком, поэтому решил сопротивляться инстинкту и меньше рваться вперёд, не обскакивая горячие головы с распахнутыми, как двери при сквозняке, глазами и высунутыми жирафьими языками, не спихивать в сторону еле ковылявших старух с тюками и набитыми не пойми чем пакетами, а уж если речь зайдёт о матери с ребёнком, то обязательно пропустить и сдержать брызги человеческой лавы, выливающейся беспрерывно с платформы в здание станции, будто последняя есть свалка отходов или ночлежка – кто как хочет пусть думает.
Главное, расслабиться и получить удовольствие в такие диковатые моменты. Ты несом почти на руках, как эстрадный певец, бросающийся со сцены на зрителей в свой юбилей, как крохотный сучок, влекомый Волгой в Каспийское море. Не глупа же ветка противиться течению великой русской реки? Придерживаясь описанной тактики, я выбрался из душных закоулков бесконечного выхода и придорожных касс снова под бомбардировку мечтательными снежинками, от удовольствия я вытащил язык наружу и ловил белую крупу. Это был что ни на есть настоящий сахар, даже с ароматом амброзии, давно пропавшей из виду после сокрушения Олимпа и его хозяев, а Шуберт яростно наяривал по улицам, как бы желая к чёртовой матери разорвать перепонки, но в этом благородном понимании появился конкурент, не менее даровитый и известный, – Эдвард Григ, великий норвежец, что своим талантом послужил Родине, подняв молодую страну на высокий уровень мировой культуры. Я даже не помнил, что именно играло из наследия певца фьордов, единственное, в чём был уверен, – это именно Эдвард Григ, никто иной. Стиль его, манера его, возвышенная мечтательность, характерная только для него, но, к своему позору, я силился пошарить в закоулках памяти и найти название необходимой пластинки, но не получилось, даже не знаю почему, предположу, что дело в не особой музыкальной образованности, потому что во всякой порядочной консерватории до дна заливают подобной водой совсем юные вёдра, кувшины и чашки – чьё произведение, какое звучание, стиль… чтобы не краснеть за забывчивость в названии композиции, которая тебе нравится.
Эдвард Григ, музыкальный гений, чье имя прочно врезалось в скрижали человеческой памяти и истории хоть одной сюитой «Пер Гюнт», я молчу об иных произведениях, не менее значительных, что ещё глубже вписали композитора в пантеон титанов людского разума, властителей души земли. Кроме того, его маленькая славная страна ранее не была представлена в этом храме всемирной мысли, а тут раз – и Норвегия стоит гордо наравне с другими, не выше и не ниже. У меня всегда вызывали уважение деятели – выходцы из не очень заметных государств, чьи поступки и труды заставляли говорить все народы в восхищении, причём не только и не столько о самой личности, сколько о земле, его родившей и воспитавшей. Это рождало образ о некоем маленьком пятачке в пространстве, на котором живёт немного людей, но каждый из них оригинален и самобытен. Де Костер показал Фламандию, Мицкевич – Польшу, Сервантес – Испанию и так далее, список можно продолжать до бесконечности из-за разнообразия народов, равноправных и равновеликих.