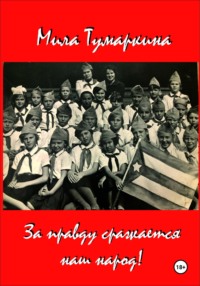Полная версия
Воскресный день

Мила Тумаркина
Воскресный день
Часть первая
Глава 1. Урок математики
Я стояла у школьной доски на уроке математики, а Маргарита Генриховна, глядя сквозь толстые стёкла очков с какими-то немыслимыми диоптриями, своими ироничными льдистыми глазами насмешливо обращалась к классу, по обыкновению, поджимая свои тонкие бесцветные губы:
– Ну, что? Наша красавица опять плавает? – небрежный вопрос, и кивок в мою сторону только усилил волнение, которое напрочь лишало меня способности соображать.
– Вот только не очень понятно, – продолжала также иронично Маргарита Генриховна, – каким стилем плавает наша поэтесса и где? Может в море? Или на танцульках? Да, имела честь лицезреть. Там она плывет, как прогулочная яхта, не в пример уроку! Математика – не танцы! Тут голову надо включать! – голос математички возвышался и торжествовал, – волосы уложить в нарушение школьного режима она не забыла, а теорему, заданную на дом, вспомнить не может!
Взгляд упирался в меня, по коже бежали мурашки, я молчала…
Преданные мальчишки спасали положение, как могли: что-то выкрикивали или шептали одними губами, делали знаки. Но я уверенно шла ко дну.
Маргарита Генриховна не выдерживала и уже кричала:
– Прекрати подсказывать, Агафонов! Из трусов ведь выпрыгиваешь! Омельченко! Алексей! И ты туда же! А вот от тебя не ожидала, комсомолец, называется! Где твоя хвалёная принципиальность, комсорг? Ай-я-яй! Думали, раз по контрольной «пятёрку» ей соорудили, так я поверю и не вызову? Ошибаетесь! Перепроверю на тридцать раз. Не сомневайтесь! Не спасёте! «Пятёрку» кровью и потом заработать надо!
Маргарита отвернулась, и в это время откуда-то с задних парт, стремительно рассекая воздух, пролетел шарик и упал прямо под ноги разбушевавшейся учительницы математики.
Неожиданно ловко и быстро нагнувшись и подняв с полу скрученную шпаргалку, она покачала маленькой птичьей головкой и, сурово посмотрев в мою сторону, подытожила:
– Ну, что задумалась, красотка? Перед смертью не надышишься!
И тут же обратилась к классу, монолитно молчавшему и настороженному:
– Я всё равно выведу вас всех на чистую воду! Математика – это наука, а не цирк! – её голос опять грозно возвышался.
Сашка Дунаев отвлекал Маргариту, как мог. Маргарита Генриховна закипала:
– Дунаев! А может, ты мне объяснишь?
Сашка вскочил, и с преувеличенным вниманием уставился на раскрасневшуюся математичку.
– Как это получается? – голос Маргариты стал подозрительно ласковым, – За контрольную по этой же теме твоя, между прочим, соседка по парте «пятёрку» получила, а сейчас у доски – ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Молчит, как партизан! Тебе не кажется это странным? А? Нет? Надо же! А мне кажется!
– Когда кажется, креститься надо, – еле слышно буркнул огорчённый моей неудачей Сашка и громко плюхнулся на заднюю парту.
– Разве я разрешила сесть? – брови Маргариты Генриховны поднялись вверх, – И хамить, Дунаев, не стоит! – на щеках учительницы появились красные пятна, – Ой, не стоит! Особенно перед экзаменами, особенно тебе!
– Чо я такого сделал? Так все говорят, – Сашка встал и скорчил смешную рожицу, класс захохотал.
– Тебя твоя «пятёрка» по математике не спасёт. Она единственная у тебя? А-а-а! Ещё и по физике имеется! Так-так! Ты ведь в военное нацелился?
Сашка сразу посерьёзнел.
– Смотри, Дунаев, помочь тебе некому. Одна мать вас тянет. И тебя, и больную сестрёнку. Ты – одна надежда у них! В военном училище с такой дисциплиной делать нечего! Надеюсь, хоть в этом ты со мной согласен?
Сашка с готовностью, изображавшей непонятный ответ, то ли он согласен с Маргаритой, то ли нет, активно закивал головой.
Учительница недовольно смотрела на него:
– Паясничаешь?
Сашка изобразил полное недоумение, удивление, непонимание и бог знает что ещё, его артистичная физиономия, менявшаяся раз в секунду вызывала дружный смех. Ребята лёгким шумом одобряли Сашкины выкрутасы.
Маргарита Генриховна обратилась ко мне:
– А ты? До сих пор мучаешься? Иди уже. А за сегодняшний ответ – «два». Впрочем, ничего неожиданного.
Дунаев, став серьёзным, с вызовом произнёс:
– А вот учитель математики Александра Сергеевича Пушкина, когда тот не мог решить задачу, сказал ему: «Садитесь и пишите свои стихи!» Это вам как, Маргарита Генриховна? И «двойку» не поставил!
Маргарита на этих словах застыла, замолчав от неожиданной Сашкиной наглости. Класс тоже замер. А Сашка, не обращая внимания на зловещую тишину, продолжал:
– Потому что это – несправедливо, унижать личность, тем более, когда она не может вам ответить.
Выпалив это, Сашка невинно смотрел на математичку. Класс, затаив дыхание, ждал, что скажет учительница. Тишина была настолько напряжённой, что, казалось, ещё немного, и всё взлетит на воздух. Дунаев же будто не замечал этого:
– Вообще-то, Маргарита Генриховна, с вами любой растеряется, не только человек с тонкой душевной организацией, – проникновенно закончил он.
– Всё сказал? – щёки Маргариты багровели. Глаза метали громы и молнии, – Это кто тут такой растерянный? Это кто тут личность с тонкой душевной организацией? Ты, что ли, Дунаев?
От всегдашней иронии ничего не осталось. В голосе зазвучал металл.
– И растерялся, по-видимому, тоже ты, Дунаев? Что- то я не вижу этого, судя по твоему неожиданному красноречию, – Маргарита криво усмехалась.
– Или, может, растерялась она? – тут математичка посмотрела в мою сторону, – поверь мне, как опытному учителю. Эта – не растеряется! Через вас, дураков, потом перешагнёт, вспомните мои слова!
Маргарита Генриховна отвернулась к доске, чтобы скрыть досаду и писала тему урока. Но, видимо, что-то задело её за живое, и она задушевно проговорила:
– Да, кстати, про Пушкина, – Маргарита с ледяной улыбкой осмотрела весь класс, – вам известно, что жизнь свою Александр Сергеевич закончил не так, чтобы очень удачно?
Воздух в классе сгустился. Повисло напряжение…
– Он и в картишки проигрывался, и приданое Натальи Николаевны промотал до копейки. Хотя, бесспорно, был гением.
Тут класс вздохнул. Напряжение нарастало.
– Да-да, об этом ещё Вересаев писал. Общеизвестный факт, между прочим. И шаль, которую подарили Наталье Николаевне Гончаровой на свадьбу, ушла за уплату долга поэта. А шаль необыкновенная была, привезена из Ирана, выткана золотом вручную, редкая шаль, -мечтательно продолжала Маргарита, будто наслаждалась, рассказывая, даже глаза прикрыла, -Плакала потом Наталья Николаевна горько, да что поделаешь? – учительница будто не обращала внимания ни на подозрительно возникший шум, ни на возмущение класса, ни на отдельные недовольные реплики.
– И погиб Пушкин тоже из-за глупой ревности. И семью без средств к существованию оставил! С долгами! Суровая правда жизни, ничего не поделаешь! Ты должен понимать, как это тяжело, Дунаев? – голос математички торжествовал.
Сашка застыл. Все знали, что его семья еле сводит концы с концами, особенно теперь, когда отец так нелепо погиб. И были возмущены Маргаритой, которая позволила этим упрекнуть Сашку.
Онемевшие ноги меня не слушались. Душила обида. Не за себя, за Пушкина! И за Сашку, конечно! Мысли бушевали и перегоняли друг друга: «Причём тут семья и средства к существованию? Пушкин – великий русский Поэт всех времён и народов, точка! И Сашка совсем не виноват, что его отец погиб по пьяному делу, оставив их с матерью и сестрёнкой, больной ДЦП».
Мне хотелось закричать прямо в лицо Маргарите Генриховне, что Пушкина подло погубили! И что условия поединка были несправедливыми. А знает ли Маргарита, что у Дантеса под мундиром была нательная рубаха из тонких металлических пластин? И я, не выдержав накала, закричала:
– Вы, Маргарита Генриховна, как Дантес, в защитной броне. И защищаетесь от всех нас. Это – несправедливо!
Маргарита Генриховна не удостоила меня даже взглядом, а продолжала смотреть на Сашку, вросшего в парту.
Математичка, конечно, застала меня врасплох. Вызова к доске я не ждала. За все предыдущие контрольные работы в школьном журнале напротив моей фамилии красовались твёрдые «пятёрки». И, конечно, я была уверена, что Маргарите хватит оценок, чтобы вывести мне хотя бы «четвёрку» за четверть, и перед уроком даже не заглянула в учебник. К тому же, если честно признаться, математику в школе я воспринимала как наказание. Маргарита Генриховна мне не нравилась. Она вполне оправдывала свою кличку Мумия.
Это чувство было старым и взаимным. Так уж сложилось, что и с математикой, и с Маргаритой Генриховной мы отталкивались друг от друга взаимным неприятием. И каждый урок был для меня суровой борьбой за выживание: учительница будто мстила мне за что-то, известное ей одной.
Я доползла до парты, красная, как рак, и села рядом с бледным Дунаевым. Быстро оглянувшийся в нашу сторону Лёшка Омельченко сделал рукой знак: «Но пасаран!» Его подхватили те, кто был за спиной математички, вне поля зрения учительницы, будто волна пробежала. Маргарита что-то почувствовав, оглянулась, но увидела только склонённые головы над тетрадями.
Учительница математики – сухонькая, строгая старушка, в длинной юбке и пиджаке, будто с чужого плеча, уже пришла в себя, вызвав к доске свою любимицу Лерку Гусеву, и что-то, по обыкновению, бубнила у доски, объясняя новую тему, рисовала графики и тихим монотонным голосом буквально усыпляла класс. Лерка с готовностью протягивала Маргарите то огромный циркуль, то гигантскую линейку.
Гусеву – Гусыню – тоже не любили. Она ни с кем не дружила, смотрела на всех свысока, и обо всём, что узнавала в классе, докладывала учителям. Ее мамаша возглавляла родительский комитет школы. Аделаида Никифоровна – мама Лерки, очень крупная женщина, всегда находилась в школе. Она подолгу сидела в кабинете директора и медленно пила чай.
Ради этих чаепитий Аделаида приносила роскошные коробки конфет. И где только доставала такой дефицит! Обычно, проходя мимо директорского кабинета, мы видели такую картину: Эмма Гарегеновна Атамалян, наша справедливая Гангрена, с выражением недовольства на лице сидит за своим столом, рядом не тронутая кружка чая. Она, уткнувшись в бумаги, что-то пишет. А Аделаида, развалясь в кресле напротив, говорит без умолку, не останавливаясь, жестикулирует, почти склоняется к директорскому столу, хохочет и чуть отхлёбывает из своей кружки.
То вдруг мы видели Аделаиду Никифоровну в учительской о чём-то горячо разговаривающую с завучем – Автандилом Николаевичем – очень деликатным человеком. Аделаида, будто выдавливала завуча, как пасту из тюбика, а он, всё ближе и ближе подходил к спасительной двери, ведущей в коридор. И, когда Автандил, с застывшей улыбкой, вываливался из учительской, мы радовались, потому что искренне боялись за историка: Леркина мамаша легко могла задавить своей массой кого угодно, не только нашего тщедушного завуча по воспитательной работе.
Аделаида, обычно в цветастом кримпленовом платье, сильно не по размеру, льстиво разговаривала и с нашей классной – химичкой Асей Константиновной – добрейшей женщиной предпенсионного возраста, пережившей блокаду и потерявшей всех своих близких. Мы ненавидели, когда на классных собраниях Аделаида перехватывала инициативу у нашей Аси и даже зычно покрикивала на тех родителей, которые затруднялись или не могли сдать деньги в кассу родительского комитета.
Аделаида Никифоровна, брезгливо улыбаясь, снисходительно выслушивала робкие объяснения причин отказа. А после, небрежно отмахивалась своей холёной рукой с кроваво-красным маникюром, говоря:
– Да у вас всегда денег нет, – оставляя чью-то мать или отца сидеть с потупленными глазами и красными от стыда щеками все родительское собрание.
Аделаида, нисколько не смущаясь, втискивалась за парту на первом ряду, суетливо кивала головой в такт каждому слову Аси и с готовностью смеялась от любой её шутки, показывая мелкие мышиные зубы.
Как-то она попыталась сделать замечание суровой сторожихе Дусе. Мы заняли наблюдательный пост за углом школы. Дуся, казалось, трепетно внимала тому, что ей вещала председательница родительского комитета. Аделаида же вошла в раж, и уже властно покрикивала и приказывала сторожихе, тыкая в нос свой указательный палец.
Мы не успели и глазом моргнуть, как Дуся, не стесняясь в выражениях, обложила леркину мамашу страшенным матом и даже замахнулась было веником к нашему восторгу!
Ошарашенная Аделаида буквально полетела в сторону директорского кабинета. После этого её неделю в школе никто не видел. Мы радовались.
Урок меж тем медленно полз. Сашка Дунаев больше не хохмил, и по обыкновению, не пулял жеваной бумагой в девчонок. Он мирно лежал на парте и, кажется, даже дремал. На «Камчатке», где сидела и я, подозрительно затихло…
Лерка, гордая оказанным доверием, стояла рядом с математичкой, подавая мел или быстро стирая с доски уже объяснённый и законспектированный материал.
Я с силой дернула Сашку за рукав.
Но неожиданно, там, где стояла ябеда-Лерка, и где сидел комсорг класса Лёшка Омельченко – что-то заклокотало, дёрнулось, раздался громкий хлопок и появился чёрный дым.
Последнее, что я увидела, были вытаращенные глаза Маргариты, и перекошенная от страха и испачканная копотью физиономия Лерки.
Глава 2. Обида
Маленький южный городок затихал, потихоньку успокаивался и стремительно окрашивался в багрово-красное закатными лучами уходящего солнца. Оно, нежаркое, прощально посылало короткие лучи белёным хаткам, не асфальтированным кривым улочкам, увитым зеленью изгородям, суровым, еле видимым из-за высоченного зелёного забора крышам казарм погранзаставы за шлагбаумом. И готовилось упасть в море, бирюзовая полоска которого была видна издали. Солнце, прощаясь, радостно вспыхивало золотыми искрами в окнах недавно выросших в военном городке пятиэтажных хрущёвок, вольготно раскинувшихся на ранее заброшенном пустыре, недалеко от КПП.
Тесные квартирки в этих домах, окружённых новенькими детскими площадками, начальной школой и большим магазином стали заветной мечтой всех жён комсостава, ютившихся многие годы в семейных общежитиях, с общей кухней и единственным туалетом в конце огромного коридора.
По выходным дням и редко в будни можно было увидеть как с военных, крытых брезентом машин разгружают нехитрый скарб: вещи семей погранцов или из числа начальства морской военной части. Эти люди считались везунчиками. Ещё бы! Получить ордер на своё жилье, обрести свою, а не казённую крышу над головой! Одним словом, считалось, что те, кто заселял пятиэтажки, ухватили мечту жизни за хвост.
Вместе с падающим за далекий морской горизонт солнцем приходила пора тишины. Вот и сейчас она разливалась по городу тёплым предвкушением скорого ужина. Из приоткрытых окон маленьких домиков плыл аппетитный запах жареной картошки.
Люди стремились побыстрее добраться до своих жилищ. Торопливые женщины забегали в продуктовые магазины, спешно хватая неожиданно выброшенный на прилавок фарш и тесто, чтобы напечь к ужину беляшей или чебуреков.
Куски молодой баранины, молоко в полулитровых бутылях, янтарное сливочное масло и буханки только что испечённого в местной пекарне благоухающего хлеба ныряли в авоськи. Женщины нагруженные, как баржи, штурмовали остановки. Неказистый с виду павловский автобус ходил каждый час. Пазик вмещал в себя немного, но, как правило, чтобы не терять час времени на ожидание, в автобус набивалось в разы больше людей, чем положено. Особенно в конце рабочего дня. Кроме того, следуя по маршруту через весь город, пазик подбирал пассажиров, останавливаясь не на остановке, и даже не близко от неё, а где надо тому, кто просто поднимал руку.
И в центре города, у магазина, задержавшиеся пассажиры еле втискивались в салон и ехали стоя, под окрики водителя, предлагающего потесниться или выйти и дождаться следующего. Но никто не выходил, люди лишь теснее прижимались друг к другу. И походили на шпроты в банке. Автобус кренился, ехал медленно, чихая пахучим дымом, будто старый вол, поднимающийся в гору.
Иногда этот же Пазик казался пустым, и это всегда обозначало одно: скорбящие родственники, провожают усопшего в последний путь на автобусе, выделенном предприятием, где ранее работал умерший или его родные. Понятие «катафалк» в городе отсутствовало напрочь. Иногда такие колесницы мы видели в иностранных фильмах. У нас же в южном приграничном городке роль погребальной кареты выполнял тот же самый Пазик. В отличие от движения с пассажирами, в такие дни он не мчался по улицам, поднимая клубы пыли, а медленно полз в сторону старого кладбища, за городок. В такие моменты очень неловко было видеть табличку с надписью «люди», прикреплённую к кабине водителя.
Я долго бродила по затихающим улицам, и не могла успокоиться. Мне хотелось плакать.
К вечеру приплелась домой. Бабушка, взглянув на меня, тут же попыталась выяснить, почему я такая «убитая» после школы? И почему пришла так поздно?
Усталость, огорчение и досада, навалившиеся на меня, отбили всякую охоту разговаривать даже с любимой бабушкой. Ничего не ответив и заперевшись в своей комнатке, также молча, я сидела у окна, смотрела на знакомую до мелочей улицу. И не могла освободиться от событий, которые навалились на меня тяжким грузом.
Когда же передо мной в окошке повисла тяжёлая, близкая и от этого сказочно огромная луна, бабушка осторожно постучала в дверь и предложила ужин.
Есть совершенно не хотелось. Ничего не хотелось. Ни читать, ни даже писать стихи, которые в тот год приходили ко мне каждый день, обрушиваясь летним дождем.
Я безучастно смотрела на яркие лунные дорожки, что перекрещивались на полу шахматной клеткой, отражая переплёты рам, и молчала. Бабушка добавила в голос строгости и прямо спросила:
– В чём, собственно, дело?
Я уклончиво ответила, что болит голова.
Она ещё несколько раз пыталась заманить меня на кухню моими любимыми куриными котлетками, и даже принесла тарелку, из которой выглядывали их аппетитные поджаристые бока. Но к тарелке я не притронулась, а сидела перед окном и распухала от слез. Перед глазами проносилось растерянное лицо Сашки, вконец рассерженная Маргарита Генриховна. Она, неприятно красная, злая, задетая чем-то более значительным, чем мы могли уразуметь, грозила мне пальцем и почему-то улыбалась.
Мысли больно и колюче ворочались в голове: «Почему Маргарита так говорит о Пушкине? Как она смеет осуждать великого поэта? А Сашка?» При воспоминании о друге, сердце застучало ещё больнее. И сразу я вспомнила тот злополучный день, когда нашли Сашкиного отца. Нашли через неделю безуспешных поисков, уже мёртвого вдалеке от городка.
Сашкин отец лежал в том самом месте, где заканчивалась узкоколейка, запрятанная в густой зелени от посторонних глаз, у пограничного блок-поста. Там всегда находились военные пограничники и морская береговая охрана. Местные туда не ходили, потому что военные строго контролировали доступ граждан на засекреченную территорию. Эта зона считалось глухой, безлюдной и опасной. И находилась в ведении пограничников. К ней и вела узкоколейка, продолжавшаяся за блок-постом.
Говорили, что эта дорога – запасная, на случай войны. Что по морю пролегает государственная граница, и до неё всего лишь два часа ходу на сторожевом судне. И что сейчас на эту станцию прибывают странные приборы, какие-то грузы, зачехлённые брезентовым пологом и много военных в непривычной глазу темно-серой форме.
Но это ещё не всё. Удивительно было то, что на головах у этих самых прибывающих и принадлежащих к неизвестному роду войск людей, были не бескозырки, не фуражки или пилотки, а панамы! В цвет формы – серо-зелёные, как у американцев! Невиданное дело в наших краях! Мы привыкли ко многому, и в маленьком приграничном городке появлялись всякие военные и моряки, но такого ещё не бывало…
Мальчишки изнывали от любопытства. Но взрослые не отвечали на наши вопросы, а поспешно отводили глаза, грозно шикали на нас и молчали.
Лёшка Омельченко, наш комсорг и Комиссар, откуда-то узнал и сообщил, что это прибыло специализированное подразделение, якобы для поддержания правопорядка в сложных или чрезвычайных ситуациях. Дело понятное и для приграничной морской зоны привычное. Он снизил голос до таинственного шёпота и сказал:
– Конечно, всё ясно, но я в толк не возьму… Панамки вместо фуражек, как у янки? Это что? Что это за форма такая?
Мы не знали, что и думать. Никто ничего вразумительного не говорил. Никто ничего не знал наверняка. А про то место, где нашли отца Сашки Дунаева говорили, что оно усиленно охраняемое и засекреченное, и что он, сашкин отец, зря туда попёрся. Вот поэтому и получил зазря, по самое «не могу». Нравы военных были суровы: граница совсем рядом, и всякое случается. Городок кипел, полнился слухами и домыслами…
Бывший боцман дядя Сеня, разговорчивый старик в сандалиях «прощай, молодость» на босу ногу, обычно по воскресеньям стоял у магазина «Вино-Пиво-Воды».
Дядя Сеня отличался не только обширной лысиной, по бокам которой торчали неопрятные кусты седых курчавых волос, как осока на болоте, но и плечами такой ширины, что, если посмотреть на него издали, то он напоминал прямоугольник, поставленный на две короткие тумбы.
Его жена – тихая добрейшая баба Нютя – давно померла, гнать его от магазина домой было некому. Вот он и упражнялся, применяя свой инструмент – язык, который моя бабушка называла не иначе, как «помело» или «языком без костей».
Стоя у магазина, дядя Сеня усердно искал компанию, чтобы «отметиться». А как иначе? Он морщил лоб и удивлённо смотрел на окружающих.
– Живой ишшо я, не помер! И чо же? В гроб, что ли мне ложиться для твоего удовольствия? – огрызался он, когда ему делал замечание участковый – младший лейтенант Костя – только что прибывший на службу из Тбилиси.
– А фигу не хочешь? Салага! Молодой ишшо, замечания мне делать! Соплю подбери! Я -старый дракон, а ты хто? Сначала гальюны научись чистить, а потом указывай! – по обыкновению, ворчал он себе в заросший буйной растительностью нос.
Старый боцман всегда был в курсе всех событий и не только тех, что происходили в городке, но и на погранзаставе. Кого наказали, кто назначен новым начальником тылового обеспечения, и кто сблатовал ему это тёпленькое место, а кто ушёл в самоволку и попался. А ещё, какая же сволочь этот новый начальник, обидевший старого боцмана по гроб жизни, отказавшись плеснуть спирта в его фляжку.
– А в ней-то и стакана нет! Жалко ему, что ли? Ну, разве не сволочь? Самая настоящая, без подмесу, – дядя Сеня обиженно фыркал и при этом успевал прихлебнуть из фляжки самогонку собственного изобретения.
– Чо бакланить зря? – он с тревогой встряхивал помятую солдатскую посудину, но убедившись, что заветная влага на месте, продолжал.
– Когда масть прёт, хули нам, кучерявым пацанам? Как грится… шкиперской команде по фигу… приткнуться, где хошь можно. Всё дело в том – добро не дают. То-то и оно. Понятно. Дисциплина, брат! Это такое! Такое! – дядя Сеня не мог подобрать нужного слова, а лишь значительно шевелил пальцами.
– Потому, как по морю на посудине – полтора часа до границы! Понимать надо, братва, где влачим существование. Без дисциплины – амба! Влипнуть, как два пальца… Опять же, знамо дело -мужик зашкериться хотел, а тут – залёт! – дядя Сеня делал большой глоток и снова задумчиво тряс фляжку. Он даже прикладывал её к уху, проверяя наличие содержимого. И после большого глотка казался недовольным:
– Когда кандейка полна – душа горит! И куда податься? Где тихо, братцы… Ни старпом, ни дама сердца не допрут! Как грится, на кладбище все спокойненько, от общественности вдалеке… Крику меньше будет. Банку обласкать самое то. А он, салага, Сашкин-то папаня, допрыгался… Вот и порвали ниже пояса… Это самое!
Дядя Сеня сокрушённо вздыхал и добавлял:
– Пойду, придавлю рундук, чо с вами зазря умные разговоры вести? Салаги!
Как оказался Сашкин отец на этой безлюдной и строго охраняемой станции, никто не знал. На допрос потом вызывали не только Сашкину мать – Нину Ивановну, с вечным испугом на лице, но и мальчишек.
Они, конечно же, ничего не могли ответить вразумительно. Их заставили расписаться под какой-то бумажкой и отпустили восвояси. А в справке, выданной в морге, написали просто: «Сердечная недостаточность, наступившая вследствие значительного переохлаждения».
Но только что назначенный следователь из военной прокуратуры, приходящий в дом друга каждый день, как-то искоса поглядывал на Нину Ивановну и уклончиво говорил, что выданная справка о смерти не всегда отражает действительное положение дел.
Молодой и настырный следователь ходил недолго, а потом и вовсе исчез. Сашка с матерью пошли в прокуратуру, где им дали от ворот-поворот и чётко сказали, что дело закрыто. Тот следователь, который к ним приходил, отстранён. А родственникам умершего лучше не соваться в дела военные, здоровее будут.