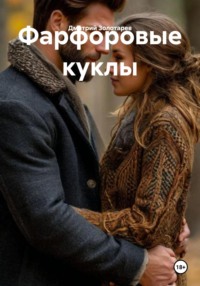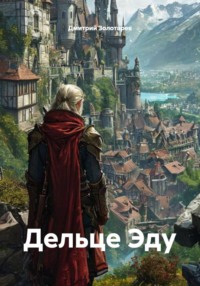Полная версия
Под гнётом чужого бремени

Дмитрий Золотарев
Под гнётом чужого бремени
Вообразите стихию первозданную и неукротимую, что сама себя сотворила и себе подчинила. Идола, перед коим склоняются в безмолвном послушании. Полубога, коий, в отличие от сонма высших родичей, на мольбы внемлет. Не во дни своенравья и не для утехи – но во всякое время. Храмы в честь его замещают капища многих богов. Ответы же его опаляют нутро нелицеприятной истиной.
Из дневников Нибраса Гурана,
первого короля-чародея
Глава 1: В сторону Гхаритана
1
Вахта близилась к концу – и с каждым идеально ровным камнем, уложенным в тележку, Мераггел всё тяжелее чувствовал это жгучее приближение. Чтобы хоть как-то оттянуть неизбежное, он работал в две смены. Отдых ему, да и ему подобным, был не нужен. Это был не физический закон – выбор. Прочие же, большинство, держались за стандартный ритм, как за спасительную соломинку. Шесть часов долбить породу – шесть часов сидеть в казарме, глядя в стену. Они даже начинали верить, что устают, что их мышцы ноют, а веки наливаются свинцом. Мераггел наблюдал эту коллективную галлюцинацию с холодным, почти научным интересом.
Его работа была работой тишины. Пока другие вахтовики гудели своими каменными пилами, чьи вибрации проникали в кости и сводили с ума, он вырезал камни. Его орудие – не пила, не молот. Посох. Ростом с обычного мужчину. На одном конце зияла пустотой полированная грань черного кристалла – тот поглощал не свет, а что-то иное: ту самую смутную энергию, что копилась в человеческом теле от вечного напряжения. Именно ею он и резал камень, бесшумно и точно, оставляя после себя идеально гладкие срезы. Кристалл был умён: касаясь гранита, он становился молочно-серым; натыкаясь на жилу меди – зеленел, как старая бронза; слюда заставляла его мерцать слабым радужным отсветом.
Посреди рукояти, на удивление удобно ложившейся в ладонь, был вживлен тонкий хоботок. Он тянулся к длинной перчатке, скрывавшей правую руку от запястья до самого плеча. Никто точно не знал, из чего сделана эта перчатка. На ощупь – прохладная, влажная кожа. Поговаривали, будто это и не перчатка вовсе, а «пиявка». Существо из иного измерения, впавшее в анабиоз и принявшее форму полезного инструмента. Верить в это было странно, но и отрицать – еще страннее. Иногда, в тишине между ударами сердца, Мераггелу казалось, что он чувствует внутри нее медленный, чужеродный ток – не кровь, а нечто, что лишь имитирует жизнь.
На изголовье посоха тупым укором торчал крюк для фонаря. Рудимент. Пережиток времен, когда люди, скрепя сердце и легкие, таскали на поясах масляные светильники, чей чад смешивался с каменной пылью. Теперь тоннели освещали холодные светильники-лишайники, растущие на сводах. Но крюк оставили. Напоминание. Возможно, о том, что и их труд, и их посохи, и они сами – когда-нибудь станут таким же ненужным крюком на теле будущего. Быть может, всё было много проще никто – просто не хотел менять уже привычный инструмент.
Мераггел провел черным кристаллом по грубому шву, оставленному пилой. Камень сдался беззвучно, как сдаётся масло под горячим ножом. Энергия, что копилась в его теле, плавно утекала в кристалл, заставляя его светиться изнутри тусклым багровым светом. Он не уставал. Но сейчас, в преддверии конца вахты, он впервые поймал себя на мысли, что, возможно, эта утекающая сила – и есть нечто куда более важное, чем просто топливо для резки камня. Что, может быть, именно её они и добывают здесь, в этих вечных тоннелях, а камень – лишь побочный продукт, пена на гребне волны.
И мысль эта была такой острой и холодной, что он вновь с силой уперся посохом в стену, пытаясь загнать её обратно – в глубины, откуда не следует выпускать никакие вопросы. Работать. Просто работать. Пока вахта не закончится. Пока не придется вернуться туда, где нет ни стены, ни камня, ничего.
Кто-то брался за телегу. Она пустела и возвращалась. Наполнялась и исчезала вновь. Мер выстраивал из идеально нарезанных, гладких камней, причудливые фигуры. Башни, будто сошедшие с гравюр, признавшие для оттиска лишь его захудалый ум. Кто-то постоянно, молча, разбирал его работы, но это было не важно. До конца вахты оставалось менее двух дней. Мер отсчитывал время по сменам. По голосам, вновь заполнявшим пустые каменные жилы. Так, раз за разом, пока один из голосов не заставил его вздрогнуть.
– Мер, дружище, – голос пробился сквозь мерный гул пил, как рыба, всплывающая на поверхность мутного пруда. – Ума не приложу, зачем ты так рвёшь седалище? В чём смысл?
Аруаггел. Будь он чуточку расторопнее, а не просто громогласнее других – его бы давно признали лидером. И тогда, быть может, эти бессловесные, зашоренные тени, в его лице, нашли бы повод к чему-то большему, чем просто сидеть и смотреть в стену. Вот бы кто-то, ненароком, подтолкнул бы их к действию.
Мысль была острая и липкая, как сок подземного гриба. Мер отсек ее одним движением внутреннего орудия. В его голове вновь воццарилась тишина – рабочая, густая, не приемлющая излишков.
Он промолчал. Кристалл в его посохе, коснувшись жилы, вспыхнул ядовито-изумрудным – цветом старой, окислившейся меди. Он обернулся к Аруаггелу, и его взгляд был таким же гладким и холодным, как срез камня.
– Позови сборщика. Будь полезен.
Ару лишь фыркнул, сдувая с усов каменную пыль, и поплелся прочь. Его полезность всегда была точечной и мимолетной. Спустя несколько минут он притащил за собой парнишку.
Молодой. Слишком молодой для тоннелей. На его лице еще не застыла та привычная маска выжженной пустоты, что была у старожилов. Было лишь глухое, сжатое в кулак отвращение. Уже промышляет подобным, – подумал Мер, и что-то едкое кольнуло его под ребра. Это была не жалость. Скорее всего, он увидел себя в этой оболочке.
Сборщик, не глядя на Мера прислонил к жиле свой инструмент – короткий жезл с кристаллом-резонатором, похожим больше на опухоль чем на продолжение рукояти. Последовала вспышка. Светом это было назвать трудно. Скорее глухой ультразвуковой спазм, который Мер почувствовал зубами. Кристалл на мгновение вобрал в себя нечто из меди, став ярким и почти живым, а затем погас. Опустевший камень, теперь просто булыжник, глухо стукнулся о пол и покатился к потрепанным сапогам Мера.
– Спасибо, – грубо буркнул он в спину уже уходящему парню.
Ответа не было. Тот просто растворился в полутьме тоннеля, сгорбившись, будто унося с собой украденную боль.
Мер знал это чувство. Знакомую, тлеющую в глубине грудной клетки ярость, у которой нет выхода. Которая, не найдя мишени, начинает разъедать изнутри. Вот бы дать этому выход, – мелькнуло у него, и эта мысль уже не казалась чужой. Она была похожа на трещину в идеально отполированной грани его отрешенности. Маленькую, почти невидимую. Но именно через такие трещины в камень и просачивается влага, чтобы однажды расколоть его надвое.
Он с силой уперся посохом в новую глыбу, заставив черный кристалл жадно всосать в себя смутную энергию его собственного напряжения. Работать. Просто работать. Оставалось меньше двух дней.
Но это не помогло. Ару жужжал над ухом, как назойливая муха. Его слова не доходили до сознания Мера, пока не слились в монотонный гул – такой же фоновый, как вибрация далёких пил. И лишь когда Мер осознал, что эта тень не сместится с периферии зрения, он наконец услышал:
– …нам и так зачтётся. Будешь ли ты работать без отдыха или будешь филонить как большинство из нас. В итоге всё сведётся к прощению.
– Знаю.
– Так в чём же проблема? Мы ведь не часть переносного завода. Это им нужно работать в поте лица, поспевая за конвейером. Наша же задача – простая выработка камня, что остался после людских взрывов.
Мер впервые за вахту остановил работу. Кристалл, уже начавший пить его напряжение, замер с тусклым багровым свечением на срезе. Мер медленно, будто со скрипом неисправного механизма, запрокинул голову. Свод тоннеля здесь был испещрён светящимися лишайниками, и их холодный, перманентный свет казался сейчас насмешкой – вечными, бесчувственными глазами, взирающими на временную биомашину внизу. Он провёл ладонью по лицу, смазывая пыль и пот в грязную маску.
– Я работаю чтобы забыться. – Он повернулся к Ару, и его взгляд был пуст – не холоден, а именно пуст, как отработанная шахта. – Впереди ждут три бесконечные недели. Нам предстоит вернуться обратно и именно от этой мысли я не могу отделаться. Понимаешь? Работа просто отвлекает меня. Ведь сам знаешь…
–…мы уже давно не люди, – перехватил Ару.
– Да, – подтвердил Мер. – Мы всего лишь инструмент, ведомый жалкой мечтой.
Он с силой, с отчаянием отвернувшегося от пропасти, вонзил кристалл в новую глыбу. Посох жадно взвыл в ультразвуковом диапазоне, ощущаемом только зубами, и принялся пить, пить, пить его внутреннее напряжение, его страх, его инерцию – превращая их в бесшумные, идеальные срезы.
Аруаггел постоял ещё мгновение, наблюдая, как его товарищ снова становится частью пейзажа, ожившим станком. Потом тихо, почти по-человечески вздохнул и растворился в полутьме, унося с собой последний намёк на диалог.
А Мер резал. Он резал камень, чтобы не услышать, как внутри него, с каждым ударом сердца, откалывается и падает в бездонный колодец ещё один осколок того, что когда-то можно было назвать «собой».
Монотонные звуки сменялись тишиной. Несуразные постройки возводились и рушились. Но самое главное – время шло. Неумолимо. Пока глухой, протяжный вой горна разорвал спертый воздух, возвестив об окончании работы.
Сама гора, будто разбуженный великан, содрогнулась в ответ, со стен своего сырого, пульсирующего брюха сбросив липкие гроздья грибов-светильников. Они лопались под ногами, чавкали, испуская тусклое, фосфоресцирующее сияние, и эта влажная, мерзкая поступь настигла Мера раньше, чем сам её источник.
Экзорцист. Страж Порога. Он проходил сквозь тоннель, как бронированное наречие, вклиниваясь в бессвязный текст руды и теней. На нем – латы цвета застарелой крови и копоти. Через плечо – массивная цепь, звенья которой были отлиты в форме сомкнутых челюстей, а на конце болтался тяжелый, окованный в черное железо молитвенник-скрижаль. На его плече покоился шипастый молот, «Судия», орудие простого и неоспоримого аргумента. И – никакого шлема. За все вахты, что Меру доводилось его видеть, тот никогда не носил с собой шлем. Лицо, обветренное и жесткое, как старая руда, с холодными, оценивающими глазами, всегда было открыто. Это был не недостаток экипировки, а демонстрация. Он считал себя выше всех их. И при каждом удобном случае доказывал это.
Прочие же надсмотрщики прятали свои лица за решетчатыми забралами. Если уж и показывались без шлема, то цепляли их на специальные крюки на поясе.
– Собираемся, выродки, – голос экзорциста, лишенный тона, прозвучал не из какого-то места, а из самого мрака, где тоннели сплетались в глотку, ведущую к выходу.
Рабочие возникли из щелей и ниш, как тараканы, потревоженные светом. Мер, очнувшись от транса, в котором только резак, только струя искр и послушная подача руды, с удивлением отметил, как много их. Всегда много. Бесконечный ресурс плоти, засыпаемый в ненасытное брюхо горы.
Экзорцист окинул сборище взглядом, будто сверяя поголовье с ментальным списком. Сплюнул. Слюна, густая и темная, шлепнулась к ногам первого в шеренге, впиталась в пыль без следа.
– За мной.
Для всех это была обычная команда. Для Мера же, эти слова прозвучали как приговор.
Они поплелись, беззвучной процессией, в такт его мерной, гулкой поступи. И вот он – Порог. Дверь из черного, проржавевшего металла. Экзорцист уперся в нее плечом, с скрипом впустив в туннель долгожданного убийцу.
Солнце.
Свет его ударил не по глазам. Он вонзился глубже – прямо в мозг, белым, обжигающим лезвием. Воздух, который, казалось, должен быть свежим, обжег легкие, как едкий газ. Он раздирал гортань, щипал в носу, был чужеродным и враждебным. Это был не глоток свободы, а проверка на прочность. Выдержишь ли ты чистый мир, выродок?
Экзорцист, силуэтом черным на ослепительном фоне, довел их до низкого, приземистого здания казармы. Толкнул дверь.
– Знаете, что делать.
Фраза-ритуал. Вычищенный механизм. Часть литургии очищения.
Они вошли. Разложили инструменты – свои светлые, теплые еще от работы продолжения рук. Сбросили пропитанные потом, пылью и спорами грибов робы, ставшие второй кожей. Тела под ними были бледными, исчерченными шрамами и прожилками черной пыли, будто самой горой.
– У вас полчаса.
Дверь захлопнулась, отсекая их от мира, в котором он остался стоять на страже. От Порога.
Душ был не милостью – процедурой. Ледяные струи воды смывали следы недр. Выходная одежда – грубая, серая холстина – униформа для временного перемирия. Они приводили себя в порядок с автоматизмом живых механизмов.
Построились перед дверью в две шеренги. Первый постучал костяшками пальцев в дверь. Раз. Два. Три. Пауза. Так было заведено.
Экзорцисты любили порядок. Их ковали, чеканили, перестраивали, чтобы они обратились живыми щитами, засовами во вратах между мирами. И теперь, не зная иной любви, они эту муштру, этот холодный порядок, передавали дальше. Таков был круговорот. Хрупкой, мимолетной власти над такими, как Мер, они предавались ей, будто смаковали старинное вино. Она (власть) струилась по их жилам вместо крови, била в голову, позволяя на миг забыть, что они – всего лишь часть механизма, всего лишь более сложный инструмент в руках той же безликой силы, что управляла и шахтой.
Мер не протестовал. Не было смысла. Пусть человек в доспехах цвета старой раны чувствует себя богом у Порога. Пусть думает, что он лучше. В этом был его крошечный, жалкий выход. А у Мера был свой – возможность, закрыв глаза, снова ощутить под ногами не твердый камень двора, а мягкую, податливую, живую руду в брюхе горы-матери, ждущей его возвращения.
И быть тому. Как и сотни раз до.
Это был не ритуал, а рефлекс. Конвейер сломавшихся душ, возвращаемых на линию сборки. Их ждали гиблые места. Выматывающие до последней капли, до полного забвения чувств. Им снова будут бубнить о близком часе, о заветном покое для людей, об очищающем огне посмертных страданий. Проповедь была частью топлива, едким машинным маслом для механизма их веры. Грешен, значит, должен страдать. Страдаешь – значит, очищаешься. Очистился – может, однажды, заслужишь покой. Бесконечный цикл, в котором покой был лишь математической абстракцией, пределом, к которому стремились, но никогда не достигали.
А ещё – тяжелый шаг по каменным плитам, которому вторил звон цепей на поясе экзорциста. И ветер. Не свежий, городской ветер свободы, а сквозняк в огромной тюремной трубе мира, несущий запахи чужих жизней: дым очагов, пряности, человеческий пот. Люди сновали мимо, взирая свысока. Их взгляды были привычной шрапнелью: любопытство, брезгливость, страх. Но в этот раз, Мер краем сознания, заметил и нечто иное. Сквозь щели в стене всеобщего презрения сочилась жалость. Она обжигала хуже плевка. Презрение ставило тебя хоть на какую-то ступень – низшую, но ступень. Жалость же растворяла в небытии, обращала призраком, фигурой скорби в чужой пьесе.
И тут он увидел его. Мужчину в дорожном плаще добротного, но немаркого сукна. Ничего особенного. Если бы не фибула.
Она скрепляла плащ на левом плече – лаконичный овал из черненого серебра. В его центре, будто проявленный из самой структуры металла, сиял символ: стилизованный, вертикальный зрачок. Глаз Гхаритана. Всевидящее Око, чей взор раскалывал горы и подчинял волю. Но было в этой фибуле и второе послание. Овальное поле вокруг зрачка было инкрустировано тончайшей мозаикой из синей эмали – узнаваемый узор, гербовая решетка Гуттов. Теперь она была не фоном, а оправой. Красивой, но безусловной клеткой для чужого, всепоглощающего взгляда.
Мер злобно, беззвучно усмехнулся, ощутив под ребрами знакомый холодок ясновидящего отчаяния.
– И эти сдались, – прошептало в нем что-то древнее и усталое. – Теперь твой родной город, Гхаритан, станет не больше чем новым кварталом. Перевалочным пунктом. Тварь проглотит его, даже не поперхнется. Не заметит.
Он представил, как по знакомым улицам, мимо дома, где он родился (или это был сон?), теперь будет мерно ступать экзорцист в латах цвета запекшейся крови. Как в местную ратушу ввезут ящики с черными кристаллами и перчатками-«пиявками». Как первая партия местных «добровольцев», с тем же потерянным взглядом юного сборщика, потянется к устью шахты.
Бедолаги.
Они еще не знали, что сдались не врагу, а логике. Логике машины, для которой города – лишь материал, а люди – носители той самой смутной энергии, что режет камень, валит лет, осушает реки. Энергии страха, надежды, отчаяния. Той самой, что он, Мераггел, с такой тщательностью сливал в свой посох, чтобы не сойти с ума.
Мысль эта растянулась настолько, что посол уже давно оказался где-то позади. Каждый его шаг теперь, отзывался в воображении будущим шагом по мостовой Гхаритана.
Быть может, они снова провернут этот трюк, – пережёвывал мысли Мер. – Ибо страх уже пустил свои корни. Гхаританцы приклонились, а значит гора больше не нужна.
Гора – он поднял голову, чтобы в очередной раз взглянуть на острые шпили Аггельского Монастыря, пока колонна замедляла свой шаг.
Экзорцист всей силой навалился на дверь. Дуб, вспученный веками, стонал под напором нечеловеческой силы, пока наконец не поддался с глухим скрежетом, словно костяная пасть. В проёме замер провожатый, его тень, удлинённая магическими факелами, легла на каменные плиты длинным и острым клинком.
В этой тени трепетало нечто. Существо, слепленное как будто впопыхах, из обрезков животного бытия: уродливое тельце, хвост-плеть, пара кривых лап и зубастая пасть до ушей. Оно застыло в благоговейном ужасе. И ровно такое же, только со свёртком из грубой ткани в зубах, в тот же миг врезалось в зеваку-собрата. Они, сплетясь в клубок шипения и визга, покатились куда-то в сумрак коридора.
Мер не мог отвести глаз. Растяпа, поднявшись, жалобно пятился, а «курьер» скалился, прижимая лапами свою ношу. Древесные демоны, – мысленно выдохнул Мер. Плесень разума, порождение древнего леса. Почему-то их обожали и орденские, и его сородичи. Быть может, за простоту. За то, что они никогда не врали.
На поверку, монастырём это место звалось лишь по старой памяти. Ещё до Вздоха Стен, до того, как Луксор научился ходить, здесь обосновался Первый Орден. Ядро этой земли. Говорили, сюда, в самую глубь, упало и застряло сердце бога. Мер иногда думал, что чувствует его – тяжёлую, мерную тягу, как будто всё вокруг медленно вращается вокруг невидимой оси где-то под ногами. Гнев небес мог быть градом, потопом, леденящим дыханье снегом, раскатом, разрывающим небо. Но молнии не было. Никогда. Хранитель её сгинул, рассыпался в прах, а сердце – глухое, одинокое – осталось здесь.
Люди нынешние его не видели. Но когда стены Луксора содрогались в основании, когда башни, искажая пространство, вырывались с корнем из земли, чтобы сделать шаг, – все знали: это бьётся в забытьи сердце бога.
Но что это знание меняло для Мера? Ничего. Оно лишь делало рабство вечным, вписанным в саму ткань мира. Он был невольником в теле, которое не принадлежало ему. Вдоль его позвоночника, под кожей, тянулся шов из инертного серебра – материальное заклинание, ошейник для души. Истинные владельцы своей кожи спали в подвалах, в бархатном стазисе, и их сладкие сны пахли амброзией и нектаром.
Так устроен был мир. Небеса закрылись для человека в тот миг, как он научился говорить и тут же – лгать. Каждое слово-предательство, каждый мелкий, трусливый обман впитывался памятью мироздания. Грешил разум – и его изгоняли. Тело оставалось пустовать, а дух отправлялся в Сейдит, вечную тюрьму сознания. Оттуда был один путь – пакт. Искупление через аренду. Люди добровольно, за звонкую монету или обещание прощения, сдавали свою плоть внаём. Экзорцисты называли это «милостью», «посильной жертвой». Для человека – миг сладкого сна. Для таких как Мер – годы жизни в чужой оболочке.
Строй, звеня кандалами по камню, расходился по камерам. Мера привели в одну из них – холодную, пропахшую ладаном и едва уловимым, сладковатым запахом распадающейся магии. Экзорцист, жестом пристегнул его к вертикальной плите. Механизм щёлкнул, обхватив запястья и лодыжки холодным живым металлом.
– Расслабься, – голос его был низким и усталым, как шорох страниц в забытой библиотеке. – Это всего лишь переодевание.
В его руке —книга, окованная железом и кожей неведомой твари. Другой рукой, пальцами, с которых стекала бледная дымка энергии, он начал чертить в воздухе. Знаки загорались и таяли, оставляя после себя вкус меди на языке Мера.
Сперва – зуд. Дикий, невыносимый зуд вдоль серебряного шва, будто под кожей пытались выбраться наружу все нервные окончания. Потом холод. Ледяная волна, растекающаяся из центра спины, выжигающая изнутри демоническую суть. Мер закусил губу до крови, но крик застрял в горле – тело отказывалось подчиняться. Он видел, как из его собственной тени, клубясь, отделялось нечто тёмное, бесформенное. Его сущность. Его «я». Его изгоняли, как непрошеного гостя.
Перед глазами поплыли круги. В ушах зазвучал далёкий, навязчивый звон. И в этой какофонии он уловил другое – ровное, спокойное дыхание. Дыхание спящего хозяина, которое теперь наполняло лёгкие, выравнивало сердцебиение, натягивало кожу, как хорошо сшитый костюм.
В последний миг, перед тем как сознание поглотила тьма, Мер поймал взгляд экзорциста. Не надменный, не жестокий. Пустой. Как у человека, который слишком долго выполнял одну и ту же работу.
Тело, теперь уже человеческое, обмякло в захватах. Ритуал был завершён. Курьер-демон, примостившийся у двери, тут же юркнул внутрь, аккуратно положил к ногам экзорциста свёрток и, получив ласковый щелчок по носу, убежал.
В свёртке лежала свежая булка и кружок сыра. Обычная плата. Чтобы получить остальное, ещё предстояло отстоять пару очередей. Часть работы. Только уже не для вахтовика.
2
Иеремия Гутт смиренно ждал своего часа. Перед ним, на отполированном до зеркального блеска столике из черного стекла, красовалась чаша. Или же, если уж быть до конца откровенным – произведение искусства. Фарфор тоньше яичной скорлупы, сквозь который просвечивал янтарный оттенок напитка. По краю вилась ажурная вязь из серебра, холодная и отстраненная, как улыбка хозяина этого места. В чаше, ещё горячий, дожидался его глотка чай из кореньев, собранных в Коротком Лесу. Запах был родным, горьковато-древесным, с нотой вереска. Именно таким, каким его заваривала мать в далеком, распахнутом настежь доме в Гхаритане. Здесь, в герметичной тишине приемной, этот запах казался призраком, ловушкой из ностальгии.
Этот жест казался гостю не актом гостеприимства – проверкой. «Возьмёшь или нет?» – спрашивала чаша. «Выстоишь или дашь слабину?» Любая реакция будет прочитана как шифр. Как бы там ни было, как бы послы доброй воли Луксора ни расписывали «цивилизаторскую миссию» и «взаимовыгодное слияние», это всё ещё был враг. Не враг с яростью в глазах, а враг-явление, враг-закон. Исполин нависающий над человеческим естеством. Он не ненавидел – он просто поглощал. Да, он был могущественнее Гхаритана. Да, страшнее любой, даже самой неестественной бури. Но это не отменяло ни на миг простой истины: Иеремия был в его логове. Нет, его уже проглотили. Он находился в стерильном чреве зверя, и сейчас решалось, переварит ли он его с пользой для себя или извергнет как инородное тело.
И всё же, логика шептала: желай Луксор просто уничтожить Гхаритан, не было бы этой пантомимы. Не нужны были бы шелковые пергаменты соглашений, бесконечные обсуждения квот. Армады «живого города» могли просто встать на рейде, и к вечеру над ратушей взвился бы стяг Луксора. Или того хуже, они могли просто растоптать город. Один выверенный шаг башни, и всё, что так долго и бережно возводилось сотни лет, будет погребено в архивах Луксора. Но они этого не делали. Значит, им нужно что-то, чего нельзя взять силой. Его подпись? Его легитимность как наследующего Гутта? Или, что страшнее, его добровольное согласие? Его предательство, оформленное по всем требованиям?
Посол оторвал взгляд от серебряной вязи и тяжело взглянул на жидкость. Она всё ещё дышала лёгким, неспешным паром, будто живое существо. Рука, сухая и холодная, потянулась к блюдцу почти против воли. Кончики пальцев коснулись керамики. Аккуратно, придерживая невесомую чашу за ручку, точную и хрупкую, как крыло стрекозы, он уже готов был оторвать её от стола – совершить акт веры, или малодушия.
В этот миг тишину разрезал надменный, отчётливый цокот каблуков по полированному лабрадориту. Звук не просто приближался – он наступал, отмеряя время, которое у Иеремии так внезапно закончилось.