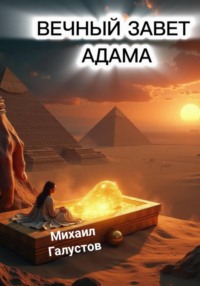Полная версия
Близнецы сновидений
Как-то раз Гриша, проходя мимо кухни, увидел, как мать берет со стола кружку, из которой пил отец в свое последнее утро. Она прижала ее к груди, закрыла глаза и замерла, словно пытаясь впитать в себя последние крупицы его тепла. И в ее позе было столько безысходности, что Гриша не выдержал и убежал в свою комнату, давясь слезами.
В тот вечер Витя, не говоря ни слова, поставил на тумбочку между их кроватями маленький цветок в горшке. Цветок был давно мертв, но Витя смотрел на него с таким сосредоточенным усилием, что Грише почудился едва уловимый, горьковатый аромат увядших лепестков. Это был сон о красоте, которая когда-то была. О мире, который когда-то был целым.
Они лежали и молчали. А за окном шумел город, который убил их отца. Тот самый город, душу которого они должны были, по пророчеству, исцелить. Сейчас они не могли исцелить даже самих себя. Они просто были. Два близнеца. Две сироты. Два хранителя реки, которая унесла их детство и теперь текла сквозь их сердца, черная от горя и ярости.
Глава десятая. Об уроках, которых нет в расписании
Школа №13 стала для братьев Оранских не вторым домом, а первой вселенной, живущей по своим жестоким и неочевидным законам. Здесь, в коридорах, пахнущих мелом, сыростью и детским потом, их дары обрели социальное измерение.
Гриша был изгоем. Не потому что слабый или ябеда, а потому что “странный”. Он мог засмеяться невпопад, услышав чью-то смешную сонную мысль, или вдруг вздрогнуть и побледнеть на ровном месте, когда в соседнем классе кто-то вспомнил свой ночной кошмар. Он смотрел на людей не в глаза, а куда-то за них, будто видел их отражение в воде. Ребята это чувствовали и сторонились. Кто-то прозвал его “Соней”, кто-то “Призраком”.
Главный задира их параллели, Димка Крутов, сын “нового русского” (который торговал тем же заводским спиртом, но ворованными фурами в Москву на спиртзаводы), любил его “прощупывать”.
“Ой, Оранский опять в облаках витает! – кричал он, загораживая Грише путь в столовой. – Ты там, в своих фантазиях, хоть покушать успеваешь?”
Окружение хихикало. Гриша лишь поднимал на Диму странный, проникающий взгляд. Он знал, что Димке каждую ночь снится, как его хмельной отец бьет посуду, а мать плачет в подушку. Он видел его страх оказаться слабым, нищим, как те, кого он гнобит. И вместо злости Гриша чувствовал… жалость.
“Отстань, Крутов, – тихо говорил он, – тебе же хуже будет.” И почему-то после этих слов Димка на секунду терялся, а потом, отводя глаза, бурчал что-то и уходил. Гриша не лез в драку. Зачем бить того, кого уже изнутри съедает чудовище пострашнее?
Витя же был всеобщим любимцем. Не лидером, нет, но тем, к кому все неосознанно тянулись. Он не был самым умным или самым сильным, но с ним было “хорошо”. Он умел вовремя пошутить, утешить, найти потерявшуюся ручку. И дело было не только в характере. Его дар работал как невидимый магнит. Подсознательно, не управляя этим, он “сглаживал” острые углы в мыслях одноклассников. Девочке Оле, переживавшей из-за прыщика, мог присниться сон, что она принцесса, и утром она просыпалась в хорошем настроении. Забияке Пете, мечтавшему о собаке, но не говорившему никому, Витя мог “подкинуть” в сон ощущение теплого, верного друга у ног. Люди не понимали, почему после разговора с Витей им становилось легче. Они просто тянулись к источнику тихого, бесплатного тепла.
Но эта популярность была клеткой. Витя был окружен людьми, но страшно одинок. Он не мог ни с кем поделиться главным: ни страхом за мать, которая так и не ожила после смерти отца, ни грузом ответственности за брата, ни тайной Подтесени. Его улыбка была самой искренней и самой прочной стеной.
Одноклассники у них были разные:
Сергей “Ботан” Лопатин – тихий, в очках, лучший друг Гриши. На самом деле, их связывала не дружба, а взаимное невмешательство. Они могли молча сидеть за общей партой, каждый в своем мире, и это было комфортно. Сергей видел в Грише не странного, а глубокого.
Катя Зотова – рыжая, ершистая, дочь оставшегося без работы слесаря. Ей нравился Витя своей непохожестью на грубых пацанов, но она стеснялась подойти. Ее сны были полны гневных, ярких красок – она много дралась, в жизни и во сне.
Димка Крутов – уже упомянутый, живой символ нового расслоения: дорогая куртка, наглый взгляд и пустота внутри, которую он заполнял дешевой властью над слабыми.
И была Аня. Анна Соколова. Она появилась в параллельном классе в середине учебного года, когда ее отца-военного перевели в угасающий гарнизон под Прибрежском. Она была другой. Не из их мира. В ее осанке, в ясном взгляде было что-то от того, старого, исчезнувшего порядка – достоинство без высокомерия. Она хорошо училась, говорила тихо, но четко, и не боялась ни Димкиных шуток, ни косых взглядов.
Гриша влюбился в нее мгновенно и бесповоротно. Но не потому что она была красивой (хотя и была). А потому что впервые за все время он, заглянув в чужой сон (непроизвольно, он не мог с этим совладать), увидел не кошмар, не суету, а нечто умиротворяющее. Ей снился сон о том, как она читает книгу в старом парке, а вокруг падает мягкий, белый снег. Тишина. Покой. Чистота. Этот сон стал для него глотком свежего воздуха в вечной тюрьме чужих страданий.
Он не смел с ней заговорить. Он лишь украдкой наблюдал за ней, а когда их взгляды случайно встречались, краснел и отворачивался, чувствуя себя уродливым подглядывателем, вором ее спокойствия.
Как-то раз после уроков Димка с приятелями попытался “подкатить” к Ане, блокируя ей путь у раздевалки.
“Чё, “военная косточка”, с нами пива не хошь? Папины погоны уже не в моде!”
Аня лишь приподняла подбородок, глядя на него как на пустое место. Эта холодная уверенность вывела Димку из себя. Он уже собирался схватить ее за портфель, как вдруг между ними возник Витя. Не Гриша, который стоял в стороне, сжав кулаки и видя все страхи Димки как на ладони, а именно Витя.
“Да ладно тебе, Дима, – сказал Витя с той своей, обезоруживающей улыбкой. – Не царское это дело. Иди лучше с нами, в кабинете информатики можно поиграть в Поле Чудес.”
Он не стал угрожать или давить. Он просто… переключил внимание. И мягко, ненавязчиво, вложил в пространство между Димкой и Аней легкое, почти неуловимое ощущение скуки от этой затеи. Димка поморщился, словно вспомнив что-то неинтересное.
“Да пошли вы все, ботаники”, – буркнул он и, плюнув, удалился.
Аня посмотрела на Витю с легким удивлением.
“Спасибо, – сказала она просто.
“Не за что, – улыбнулся Витя. – Я Витя Оранский. А это мой брат, Гриша.”
Гриша, пойманный врасплох, только кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Он встретился с Аниным взглядом, и ему показалось, что в ее глазах на миг мелькнуло не просто любопытство, а что-то вроде… узнавания? Как будто и она что-то почувствовала.
В тот вечер, вернувшись домой в свою тихую, холодную квартиру, братья обсуждали день.
“Она тебе нравится, да?” – спросил Витя, разогревая на плите скудный ужин.
Гриша молча кивнул, уткнувшись в учебник.
“Она… не такая как все. В ее сне тихо”, – проговорил он наконец.
“Может, она тебе и приснится когда-нибудь, – мягко пошутил Витя, зная, что для Гриши это не шутка, а либо награда, либо пытка.
“Не надо, – резко сказал Гриша. – Я не хочу влезать в ее сны.”
Он хотел, чтобы хоть что-то в этом мире оставалось чистым, неприкосновенным и настоящим. Аня стала для него таким символом. Островком тишины в реве чужих душ. И этот островок был таким хрупким, что одно неверное движение, одно проявление его проклятого дара могло его разрушить. Школа учила их не только алгебре и истории. Она учила их главному уроку: их дар был одновременно благословением и проклятием, мостом и стеной. И с каждым днем эта стена между ними и остальным миром, и даже между ними двумя, росла, становясь все толще и неприступнее.
Глава одиннадцатая. О хлебе насущном и власти над снами
Голод в квартире Оранских стал ее незримым жильцом. Он витал в пустом холодильнике, скрипел на полках вместо посуды и смотрел на мальчиков пустыми глазницами консервных банок. Светлана, тень самой себя, уходила затемно и возвращалась затемно, принося жалкие копейки за уколы, шитье и уборку.
Именно этот животный голод вместе с безысходностью стал катализатором прогресса дара ребят. Сидели как-то вечером на кухне, пили чай без всего. Витя с тоской смотрел на потрескавшийся кафель.
“Вот если бы… если бы просто взять и достать из сна булку горячего хлеба. Прямо вот так,” – он сделал неуверенный движение рукой в воздухе.
Но Витя задумался серьезно. Он закрыл глаза, отбросил мысли о пустом желудке и начал “вспоминать” сон о цветке невероятной красоты во всех деталях. Воздух в углу кухни дрогнул. И между стеной и столом расцвел маленький, нежный цветок с перламутровыми лепестками. Самый настоящий.
“Я его оттуда… вызвал,” – прошептал Витя.
Их взгляды встретились, и в них вспыхнула одна и та же, дикая мысль. Хлеб!
Витя концентрировался на самой сущности хлеба: сытости, безопасности, домашнем тепле. На кухонном столе воздух сгустился в золотистое марево. И на клеенке, влажный еще от жара несуществующей печи, лежал румяный каравай.
Они ели, плача и смеясь, чувствуя, как голод отступает. Это была магия, которая могла спасти.
А потом Витя сказал, видя завистливый взгляд брата:
“Гриш… а твой дар… он же тоже может быть полезным. Ты же говорил, что во время кошмаров люди… открыты.”
Гриша замер, но быстро ответил:
“Отец говорил это нарушает правила, но наш хлеб это тоже нарушение. Деваться некуда, мы должны выживать, давай пробовать.”
Мысль использовать его дар активно казалась кощунственной. Но вид сытого брата и память о бессильной матери перевесили. Он решился на эксперимент. Объектом стал Димка Крутов.
Гриша знал его ночные кошмары досконально: пьяный отец, разбитая посуда, плачущая в подушку мать. В ту ночь, когда этот кошмар разыгрался снова, Гриша не просто наблюдал. Он собрал волю и шагнул внутрь. Он был невидимкой в углу страшного сна. Увидев призрачного, маленького Димку, забившегося в угол, Гриша сделал нечто иное. Он не стал внушать находку денег. Вместо этого, он обратился к тому глубинному страху, который питал всю злобу Димки в школе – страху стать таким же, как его отец. Голосом, который был скорее ощущением, чем звуком, Гриша вложил в спящее сознание одноклассника простую, но ясную мысль: “Ты не хочешь быть таким. Ты сильнее. Оставь Гришу в покое. Он тебе не враг, он просто другой. И в его глазах ты видишь то, чего боишься больше всего – жалость. Прекрати.”
Наутро Димка пришел в школу не хмурым и не искал Гришу взглядом. Когда их пути пересеклись в коридоре, Гриша, по привычке напрягшись, готовился к насмешке. Но Димка лишь на секунду встретился с ним глазами, быстро отвел взгляд и прошел мимо, словно не замечая. Не было ни издевок, ни толчков. Было игнорирование, но не агрессивное, а скорее смущенное. Для Гриши это была огромная победа. Он не манипулировал, а защитил себя, достучавшись до чего-то человеческого в самом сердце кошмара.
Успех окрылил. И когда Гриша услышал, как мать, собираясь на подработку к самому Крутову-старшему, прошептала: “Хоть бы не обсчитал…”, – решение созрело мгновенно. Техника отработана. Цель – важнее.
Он знал сны нового “хозяина жизни”. Это были взрослые, утробные кошмары: его самого грабят, кидают в яму, отнимают его хлипкое богатство. Гриша вошел в этот сон. Атмосфера была густой, пропитанной потом страха и алчности. Он увидел призрачный образ Крутова, мечущийся среди развалин. И тогда Гриша, преодолевая отвращение, сделал свое дело. Он встроил в сюжет кошмара новую деталь. Когда грабители скрылись, а Крутов лежал в грязи, к нему подошла фигура в простом платье – силуэт, похожий на Светлану. И она, не говоря ни слова, простирала над ним руки, и грязь превращалась в золотые монеты. И звучала мысль, четкая, как приказ: “Заплати ей. Заплати щедро. Она – твой талисман. Она приносит удачу. Не поскупись, или все это произойдёт с тобой наяву”.
На следующей день вечером Светлана вернулась ошеломленная, сжимая в руках пачку купюр, сумму за месяц работы.
“Он… сказал, что я приношу удачу, – лепетала она. – Заплатил вперед…”
Братья смотрели на эти деньги, а потом друг на друга. На столе лежали крошки вчерашнего волшебного хлеба. Триумф был полным. Они нашли способ влиять на мир. Кормиться. Защищать.
Но Гриша, ложась спать, чувствовал странный привкус. Горьковатый, металлический. Как будто он, войдя в грязный сон алчного человека, принес частицу этой грязи на себе. Он помог матери, но сделал это, вторгнувшись и исказив чужое сознание, пусть и сознание негодяя. Где-то в глубине души, в том месте, где текла его связь с Подтесенью, дрогнула и пошла рябью темная, маслянистая вода. Они сорвали первый запретный плод. И не подозревали, что за сладость всегда следует расплата.
Глава двенадцатая. О пекаре, которого не было
Жизнь, как та самая Ока после половодья, понемногу возвращалась в свои берега. Пусть не в прежние, широкие и полноводные, а в новые, более узкие, но зато прочные. В больнице, сжалившись или по нужде, Светлану снова взяли на работу. Зарплата была смехотворной, но это были деньги, а не спирт или бартер. Прибавка к пособию по потере кормильца, хоть и мизерная, давала ощущение хоть какой-то опоры от государства. И главное – вернулся смысл в ее движениях. Она снова была медсестрой, а не призраком. Усталая, но живая. Она даже стала брать больше подработок, зная, что сыновья уже не малыши и сами справятся.
А сыновья не просто справлялись. Они творили в пустой квартире свое собственное, тихое чудо. Время без матери стало для них временем академии тайных искусств.
Гриша, измученный годами хаотического вторжения чужих снов, научился структурировать хаос. Он больше не тонул в океане ночных кошмаров города, а плавал в нем, как опытный ныряльщик. Он отточил умение находить нужную “нить” – сон конкретного человека. Он научился “пролистывать” сны, как страницы книги, отделяя важное от фонового шума. Он открыл, что может не погружаться в сон с головой, а наблюдать со стороны, через защитное стекло собственной воли. Это не избавляло полностью от тяжести увиденного, но давало контроль. Он стал не жертвой дара, а его оператором.
Витя, взрослея, обнаружил, что его внутренняя “мастерская” расширилась до размеров вселенной. Если раньше он создавал отдельные образы – запах хлеба, цветов, – то теперь он учился писать целые картины. Во сне он смешивал краски, каких не было на палитре, создавал формы, нарушавшие законы ботаники и архитектуры. Он научился передавать в мир не просто запахи, а целые букеты ощущений: запах дождя в сосновом лесу, смешанный с чувством безмятежности, или аромат старой книги, несущий отголоски спокойной мудрости. Материализация стала для него таким же естественным процессом, как дыхание. Как-то раз, когда Гриша особенно тосковал по детству, Витя, подумав, поставил на стол не просто яблоко, а целый, еще теплый яблочный пирог, с хрустящей корочкой и коричной пыльцой на поверхности. Он был идеален.
Но волшебство надо было прятать. Так родилась легенда о Пекаре. Светлана, уходя затемно, всегда оставляла деньги на хлеб. Братья эти деньги бережно откладывали (Витя говорил, что на “покупку ингредиентов для экспериментов”, а по сути – в тайный фонд на черный день), а на стол выкладывали свежайшую, душистую буханку.
“Мама, ты не представляешь, какой у него хлеб! – с восторгом рассказывал Витя за завтраком. – Он приезжает на голубой “Газели”, прямо у дворов торгует. Говорит, печет для души. А его жена… она нас с Гришей обожает! Говорит, мы ей напоминаем племянников. Всегда всучит что-то недорогое – то булочку, то калачик. И денег брать не хочет!”
Светлана, сначала удивленная, потом просто благодарная, качала головой: “Ну, есть на свете добрые люди. Только не будьте навязчивыми, не обижайте доброту.” Она была слишком уставшей, чтобы копать глубже, а хлеб и правда был божественным. Лучше того, что продавали в городских магазинах. Эта маленькая ложь во спасение стала краеугольным камнем их новой, более уверенной жизни.
Братья стали ближе, чем когда-либо. Их связывала не просто кровь, а общая тайна, общая цель и общая, окрепшая сила. Они разговаривали на своем языке, полном намеков и терминов, понятных только им: “вчера нашел сон нашего мэра, там такой бардак…”, “а я попробовал воссоздать запах той поляны из сна отца, помнишь?”
Их главной, неозвученной целью стала подготовка к Подтесени. Они чувствовали зов той реки, как слышат перезвон колокола где-то вдали. Теперь у них были инструменты. Гриша тренировал “психическую броню”, чтобы выдержать давление коллективного бессознательного города. Витя учился создавать и удерживать в уме сложные, яркие образы – возможное оружие против “Туманов” или ключи к тайнам реки.
Они достали и перечитали отцовский дневник, который раньше понимали с трудом. Теперь записи о “точках входа”, “течении снов” и “якорях реальности” обретали практический смысл. Они потихоньку собирали свои “якоря” – предметы, связанные с их самыми сильными, совместными переживаниями: тот самый камешек с дырочкой, общая фотография с отцом, первый цветок, созданный Витей, компас отца (один из его якорей для входа).
Как-то вечером, когда за окном бушевала метель, они сидели на кухне, попивая чай с великолепным печеньем, которое Витя “подсмотрел” во сне о французской кондитерской.
“Мы готовы?” – тихо спросил Гриша, ломая хрустящую розетку.
“Не знаю, – честно ответил Витя. – Но если не сейчас, то когда? Мы уже не дети. И река… она ждет. Я чувствую, как она меняется. Становится другой.”
Гриша кивнул. Он тоже чувствовал. Сквозь сны горожан все чаще прорывался липкий, черный страх бедности, связанный с пережитыми очень тяжёлыми временами, недавним дефолтом и резким скачком курса доллара США. Это питало Подтесень.
“Значит, скоро, – заключил Гриша. – Надо только дождаться подходящего дня. И предупредить маму, что мы можем задержаться в… библиотеке.”
Они переглянулись и улыбнулись. В их улыбках была не мальчишеская бравада, а твердая, взрослая решимость. Они были двумя берегами одной реки, и вода между ними текла ровно и мощно, набирая силу перед тем, как устремиться в неизведанное русло. Их маленькая кухня с запахом волшебного хлеба была тихой гаванью. Но они уже точили весла для далекого плавания.
Глава тринадцатая. Клятва на берегу двух рек
Берег Оки в том месте, где когда-то кипела жизнь речного вокзала, теперь был царством тишины и заброшенности. Полусгнившие причальные мостки уходили в мутную воду, как ребра дохлого кита. Среди покосившихся сараев братья нашли то, что искали: старую, проржавевшую каютку сторожа, почти невидимую за стеной дикого шиповника. Стекло было выбито, дверь висела на одной петле, но крыша еще держалась. Внутри пахло плесенью, тиной и чем-то неуловимо знакомым – слабым, застрявшим здесь эхом давних снов о дальних плаваниях.
“Здесь, – сказал Гриша, обводя взглядом захламленное пространство. – Это наша база”.
Витя кивнул, уже мысленно расставляя по углам воображаемые предметы: стол для карт, полку для якорей, сундук с припасами. Он прикоснулся ладонью к сырой стене, и под его пальцами на мгновение проступил теплый узор, похожий на морскую волну, – сон о надежном пристанище.
Наступил момент. Братья стояли спиной к каютке, лицом к широкой, сонной Оке. В руках у каждого был свой якорь. У Гриши – потрепанная фотография отца, где тот смеялся, обнимая их обоих, еще малышей. У Вити – тот самый камешек с дырочкой, теплый от постоянного контакта с ладонью. Они взялись за руки, свободные ладони легли на открытую страницу отцовского дневника, где корявым почерком был выведен не текст, а странный, вихревой узор – ключ.
“Отец, – прошептал Гриша, глядя на фото. – Проводи”.
“Проводи”, – эхом отозвался Витя, сжимая камень.
Они начали читать заклинание. Не только слова, но и ощущения, вложенные в узор. Чувство падения во сне. Чувство потери границы между телом и пространством. Чувство течения, уносящего вглубь.
Воздух перед ними, над самой водой, задрожал и потеплел. Краски мира поблекли, будто их затянуло грязноватой пленкой. И эта пленка порвалась. Звук реальности – щебетание птиц, шум ветра в кустах – ушел, сменившись плотной, звенящей тишиной.
Они шагнули вперед. И оказались на берегу Подтесени.
Она была прекрасна и печальна одновременно. Не та жутковатая, мутная река из детства, но и не сияющий поток чистых грёз. Вода переливалась глубокими, тягучими цветами: где-то бархатно-синяя, как ночное небо, где-то – зеленая, как лесная чаща, а кое-где проступали грязновато-желтые и ржаво-коричневые разводы, словно незаживающие раны. По ней плыли сны. Яркие, как витражи: смех ребенка, первый поцелуй, ощущение полета на велосипеде с горы. Но тут же, рядом, проползали клубки теней: тревога перед экзаменом, стыд за мелкую подлость, всеобщая ежедневная усталость. Река дышала. Её дыхание было сложным – в нём чувствовались и надежда, и глубокая усталость.
“Она… живая, – сказал Витя, завороженный. – И она всё ещё болеет. Не так как тогда, но не выглядит здоровой и полной жизни.”
“Смотри, – Гриша указал на одно из темных пятен. – Это страх. Страх завтрашнего дня. Он исходит почти от всех. Люди бояться тратить деньги и копить тоже бояться.”
Они шли по берегу, который был не песком, а чем-то упругим, похожим на спрессованный свет. Диалог рождался сам собой, тихий и беспощадно честный.
“Отец и дед просто смотрели, – начал Гриша. – Они берегли знание, как святыню. И боялись. Деда сгубил страх других перед его даром. Отца сгубил… страх действовать. Страх сломать хрупкий баланс”.
“Они были смотрителями, – добавил Витя, глядя на свои руки, способные творить. – А мы? Что мы будем делать, Гриш? Собирать красивую коллекцию чужих страданий и надежд? Как картины отца из ржавого железа – смотреть и восхищаться болью?”
Гриша остановился. Его лицо, обычно отражающее чужие эмоции, сейчас было сосредоточено на своих.
“Нет. Я не хочу быть зеркалом. Зеркало – оно пассивно. Оно лишь показывает грязь, но не моет. Я… я хочу быть мостом. Чтобы человек мог перейти по нему из своего кошмара… куда-то еще. К тебе, к твоим снам”.
Витя взглянул на брата, и в его глазах вспыхнул ответный огонь.
“А я не хочу быть просто утешителем. Не хочу давать хлеб, чтобы забыли о голоде. Я хочу… изменить почву. Чтобы хлеб рос сам. Чтобы сны людей рождались не из страха нужды, а из… из любопытства к миру! Из желания творить, а не выживать!”
Голоса их крепли, звучали в странной тишине Подтесени как клятва.
“Нас назвали богатырями духа, – сказал Гриша. – Но богатырь не сидит в засаде. Он выходит на битву. Даже если поле битвы – вот эта река. Даже если дракон – это чей-то невыносимый, многолетний страх”.
“И даже если драконов очень много”, – тихо добавил Витя, глядя вглубь реки, где вдали, за изгибом, вода казалась неестественно черной.
Они повернулись друг к другу, и в этот миг были не просто братьями, не просто носителями дара, а двумя частями одного целого, осознавшими свою миссию.
“Клянусь, – сказал Гриша, и его голос был низким и твердым, как сталь, которую любил их отец. – Клянусь тебе и этой реке. Я буду рядом. Всегда. Ты падаешь – я подниму. Ты заблудишься в чужих снах – я найду тебя и выведу. Мы будем менять эту реальность, клянусь. Пока люди в нашем городе, в нашей стране не смогут, наконец, вдохнуть полной грудью. Без этой тяжести здесь”.
Он приложил руку к груди.
“Даже если будет невыносимо трудно. Даже если придется сломаться. Даже если…” Он не договорил, но Витя понял. Даже если погибнуть.
Витя положил свою ладонь поверх его руки. Его клятва была другой – не стальной, а живой, как дерево.
“А я клянусь… наполнять этот мир таким светом, что тьме не останется места. Клянусь быть источником, а не только фильтром. Мы не будем бояться, как они. Мы будем творить. И мы будем возвращаться сюда, к этой реке, снова и снова, пока она не станет чистой. Пока она не запоет”.
Их клятвы, смешавшись, повисли в воздухе, и казалось, сама Подтесень на миг затихла, прислушиваясь. Но эхо еще не смолкло, как вода вдали, у того черного изгиба, зашевелилась. Из неё, как испарения от кислоты, начали подниматься бесформенные, тягучие клубы. Они были цвета гниющей листвы и похожи на отчаяние, если бы кто-то захотел его нарисовать. Они не имели глаз, но ощущали присутствие – присутствие чистой, дерзкой, юной воли, бросившей им вызов.