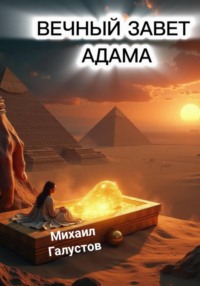Полная версия
Близнецы сновидений
“Это Подтесень, – тихо сказал Артем. Он стоял, вглядываясь в переливы реки, и его лицо было печальным. – Река снов нашего города. Такой я ее еще не видел. Обычно она полноводная, чистая и живая.”
“Она… больная?” – спросил Гриша, его взгляд, привыкший к чужим кошмарам, сразу уловил в красивых переливах тревожные ноты: где-то мелькнула тень с горящими глазами, где-то проплыл звук ссоры.
“Не больная. Она – честная, – поправил отец. – Она показывает, что у людей на душе. Смотрите.”
Он указал на поток. В целом он был тусклым, мутноватым. Преобладали серые, грязно-желтые и коричневые тона. Вспышки ярких, радостных цветов были редки и быстро гасли. Из реки доносился невнятный гул – шепот тысяч спящих умов, в котором ясно различались ноты тревоги, усталости, однообразной скуки.
“Видите? Город устал. Он не верит в хорошее. Он боится. И река несет эти сны. Такой же она была перед войной, рассказывал мой отец. А потом… потом она стала черной и горькой, как полынь.”
“А твой отец… наш дедушка… он тоже приходил сюда?” – спросил Витя, не отрывая глаз от волны, которая на мгновение приняла форму его собственного сна о летающем доме.
“Да. И его отец тоже. Этому знанию в нашем роду не одна сотня лет. Нас всегда тянуло к этой реке, как водоворотом. Мы – смотрители. Но смотрители не всегда могут что-то изменить.”
Артем обернулся к сыновьям, и его лицо стало суровым.
“Слушайте меня внимательно. То, что вы видите, – не игрушка. Это место силы, но и место смертельной опасности.”
Он указал на дальний берег, где над рекой клубились серые, бесформенные клочья тумана.
“Видите эти тени? Это “Туманы”. Они рождаются из страха, злобы, отчаяния. Они питаются светлыми снами. Если такой тени дотронуться до тебя, она может высосать из тебя все радостные воспоминания, оставив только пустоту и холод. Они еще слабы, но в тяжелые времена… они становятся сильнее и смелее.”
“А еще… – он посмотрел на Гришу, – никогда не пытайся войти в чужой сон, что плывет здесь, без моего разрешения. Некоторые сны – как трясина. Можно застрять в них навсегда, забыв, кто ты. Твоя сила, сын, делает тебя особенно уязвимым.”
“А я?” – тихо спросил Витя.
“Твои сны – как мед. Они приманивают не только “Туманы”, но и… других. Сущности, что жаждут красоты, чтобы исказить ее. Твой дар – огромная ответственность. Не разбрасывайся им.”
Он помолчал, давая словам улечься в детских душах.
“Мой отец показал мне это место, когда мне было немногим больше ваших лет. Но он не успел научить меня всему. Его забрали. И многому мне пришлось учиться самому, на своих ошибках. Я до сих пор не знаю всех тайн Подтесени и всех ее обитателей. Говорят, на дне ее спят сны давно умерших поколений, а в истоках течет чистая душа России. Но я там не был. Это вам, может быть, предстоит.”
Вдруг Гриша вздрогнул и указал на середину реки. Там, в толще потока, проплывал огромный, темный сгусток, от которого расходились черные, липкие волны. От него исходил немой крик, полный такого ужаса и безнадежности, что Витя невольно схватился за руку отца.
“Что это?” – прошептал он.
“Это “Ядро”, – мрачно ответил Артем. – Сгусток самых тяжелых, самых больных снов. Страх безработицы, нищеты, потери будущего. Оно только формируется. Но оно растет. И с ним однажды придется что-то делать.”
Артем долго смотрел на темнеющие, беспокойные воды Подтесени, прежде чем заговорить снова, и голос его звучал устало и мудро, как скрип вековых деревьев.
“Вы спросили, кто мы здесь. Мы – не правители и не стражи в обычном смысле. Мы – Смотрители. Так говорил мне мой отец, и его отец – ему.”
Он повернулся к сыновьям, и в его глазах горел отблеск светящейся реки.
‘Наш дар – это не только способность видеть. Это и ответственность. Мы не можем бежать по улицам и кричать, что в душах людей зреет тьма. Нас не поймут, а могут и счесть безумцами, как бывало. Наша работа иная. Мы – защитники берегов.”
“Берегов?” – переспросил Витя.
“Да. Берега этой реки, – Артем махнул рукой в сторону переливчатого потока. – И берега той, что наверху, в нашем мире. Подтесень и Ока – как две стороны одной монеты. Что происходит здесь, рано или поздно просачивается наверх. Отчаяние здесь рождает “Туманы” – а там, в мире, оно рождает пьянство, злобу, жестокость. Они не знают, откуда ветер дует. А мы – знаем.”
Он присел на корточки, чтобы быть с ними наравне.
“Смотритель не лезет в чужие сны, чтобы их менять. Он наблюдает за течением. Чувствует, где вода становится особенно черной и густой – значит, в какой-то части города скопилась беда. Чувствует, где зарождается светлый поток – значит, есть надежда. Наша задача – не давать берегам размыться окончательно. Чтобы тьма отсюда не хлынула в ваш мир лавиной, а светлые сны – не угасли, не растворились в этом болоте. Мы… балансируем. Держим равновесие. Иногда – просто своим присутствием, знанием. Иногда – тихим, невидимым для всех жестом: можно поправить “якорь”, усилить светлый сон, чтобы он не погас, или… отогнать “Туман” от особенно уязвимой души. Но делается это тихо, как шепот. Иначе равновесие нарушится.”
Он посмотрел на Гришу, потом на Витю, и взгляд его стал тяжелым.
“Мой отец не успел научить меня всему. Многому я учился сам, на своих ошибках. И я не знаю всех тайн Подтесени. Я знаю только, что если смотрителей не станет, связь порвется. Берега рухнут. И тогда тьма из снов выйдет на улицы уже не метафорой, а чем-то похуже. Город может погрузиться в безумие, даже не понимая, почему. Вы – пятые в известной мне череде. И этот долг, эта ноша… теперь и ваша. Не для славы. Не для власти. А для тихого, неблагодарного, невидимого миру служения. Чтобы река текла, а не захлебнулась собственной горечью.”
Он повел их обратно, к дрожащей завесе, ведущей в реальный мир. Возвращение было похоже на резкое пробуждение. Они снова стояли на скользких бревнах причала, и холодный осенний дождь бил им в лица. Но внутри у них горел огонь – огонь знания, страха и странной, неизбывной надежды. Они видели реку, текущую под рекой. И теперь их жизнь была с ней навсегда связана.
Глава шестая. О первом звонке и последних снах
Тот год воздух в Прибрежске стал иным. Он был густым, как кисель, и горьким, как полынь. Прежние сладковатые дымы с заводов стали жидкими и едкими, а потом и вовсе стали появляться все реже. Город будто выдыхал последнее, и в его легких оставалась лишь пустота.
Эта пустота добралась и до квартиры Оранских. Светлану, как и многих других, “оптимизировали” в больнице. Она принесла домой сухую справку о сокращении и молча просидела весь вечер у окна, глядя на потемневшие корпуса “Химмаша”. Артем пытался шутить, говорил, что теперь у них будет свой личный врач на дому, но шутки висели в воздухе тяжелыми камнями.
Сам Артем приходил с работы все позже, а в глазах его появилась усталая усмешка. Вместо зарплаты ему, как и другим инженерам, стали выдавать длинные синие коробки с надписью “Спирт этиловый”. Он приносил их домой и прятал на антресолях с таким видом, будто это были трофеи с какой-то странной войны.
“Ничего, Света, – говорил он жене, которая смотрела на эти коробки с тихим ужасом. – Это ведь тоже деньги. Меняем, продаем… Все наладится. Я все решу.”
Он действительно решал. Он тайком продавал эти бутылки, менял на сахар, крупу, мыло. И однажды разложил на столе две новеньких, пахнущих типографской краской школьных формы, ранцы с изображением Чебурашки и портфель с персонажами из Простоквашино, а также целый ворох тетрадок, карандашей и пластилиновых палочек.
“Вот видишь, – сказал он Светлане, – собрали. Как все.”
Светлана смотрела на все это богатство и плакала. Но это были слезы облегчения.
Первое сентября 1991 года выдалось на удивление ясным и теплым. Солнце, будто решив напоследок вспомнить о своем долге, заливало золотым светом двор школы №13. Девочки в белых фартучках и бантах, мальчики в строгих костюмах, море гладиолусов, трепетавших на ветру, как взволнованные сердца. Звучала торжественная музыка, и первая учительница, Валентина Петровна, с неизменной улыбкой встречала своих новых “птенцов”. Это был последний, идеально сохраненный слепок советского детства. Для Гриши и Вити, стоявших рядом и сжимавших в потных ладонях букеты, это был просто праздник. Они не видели трещин на фасаде, не слышали тревожных нот в голосах взрослых. Для них мир все еще был прочным и надежным.
Но ночи принадлежали иному миру. Гриша все глубже погружался в пучину чужих кошмаров. Теперь это были не просто страхи, а целые сюжеты обнищания, потерь, драк в пустых магазинах. Однажды ему приснился сон их соседа, дяди Коли, который работал водителем. Тот стоял на краю обрыва, а его автобус, полный пассажиров с пустыми глазами, медленно скатывался в пропасть. Дядя Коля кричал, но не мог издать ни звука.
Гриша зашелся в привычном, удушливом крике, вырываясь из сна. Проснулся весь дом. Светлана вбежала в комнату, зажигая свет. Артем был уже рядом.
“Опять… дядя Коля…” – всхлипывал Гриша, не в силах объяснить весь ужас.
Витя, разбуженный криком брата, сидел в своей кровати. Он видел, как мучается Гриша, и ему стало до боли жалко. Он закрыл глаза и изо всех сил попытался представить что-то хорошее. Не просто запах, а целый сон. Сон, в котором дядя Коля не падает в пропасть, а ведет свой автобус по цветущему лугу, а пассажиры смеются и поют. Он вложил в эту картинку все свое тепло, всю свою любовь, весь свой дар.
Гриша перестал кричать, уснул и, может быть, впервые улыбался во сне. Проснувшись утром, он сел в кровати и удивленно прошептал брату:
“Представляешь, Вить… У дяди Коли… все изменилось. Во сне он… вез людей на пикник. И все смеялись.”
Витя с облегчением улыбнулся. Он сделал это! Он изменил сон!
Они не знали, что этой же ночью в соседней квартире их сосед, дядя Коля, который ворочался в постели, стиснув зубы от своего кошмара, вдруг расслабился. На его лице появилась улыбка. Ему приснилось, что он ведет свой автобус по бескрайнему солнечному полю, а его пассажиры пели старую, добрую песню. Он проснулся утром с необычайной легкостью в сердце, с ощущением, что все не так уж плохо.
Братья, притихшие и впечатленные, сидели в своих кроватях и смотрели друг на друга. Они прикоснулись к чему-то огромному, к силе, о которой даже их отец, наверное, не догадывался. Они смогли не просто увидеть или создать сон, но и изменить его.
“Это как в Подтесени, – прошептал Гриша. – Только… без реки.”
“Мы можем делать добро, Гриш, – с восторгом сказал Витя. – Мы можем помогать.”
Они не понимали тогда всей ответственности и всех последствий. Они не знали, что, меняя один сон, они запускают цепь непредсказуемых событий в реальности. Они были как дети, нашедшие в лесу незнакомый рычаг гигантской машины и дернувшие его из любопытства. Они прикоснулись к верхушке айсберга, даже не подозревая, какая монументальная глыба скрыта под водой. Но в тот день они испытали чувство тихого торжества. В их руках оказалась не просто странность, а сила. И это меняло все.
Глава седьмая. О том, как ржавчина съедает сталь
Если бы существовал прибор, измеряющий степень отчаяния, стрелка в Прибрежске застыла бы в красной зоне. Город погружался в трясину, и эта трясина засасывала все – улицы, дома, души. Асфальт трескался, как сухая глина, и из трещин прорастала бурьянная тоска. Окна пустующих цехов “Химмаша” смотрели на мир ослепшими глазами-проломами, а по вечерам в их чреве гулял только ветер, насвистывая похоронный марш ушедшей эпохи.
В квартире Оранских пахло бедностью. Не той уютной, а горькой, как окурки в пепельнице. Светлана, как тень, скользила между комнатами, пытаясь растянуть скудные запасы. Ее спасали деревни. Она обходила окрестные села, делая уколы старикам, перевязывая раны, выслушивая жалобы. Платили ей натурой: морковкой, картошкой, иногда куском сала или десятком яиц. Эти дары земли были единственной прочной валютой в мире, где бумажные деньги превращались в пыль. Она приносила их домой, разворачивала из платка, и Артем смотрел на эту еду с таким стыдом, что ему хотелось провалиться сквозь землю.
Его собственный вклад в семью – синие коробки с надписью “Спирт этиловый” – обесценился. Рынок был перенасыщен, менять их стало невероятно сложно. Инженерный ум, способный рассчитать нагрузку на металлоконструкцию, отказывался понимать новую алгебру выживания. Он видел, как его коллеги, такие же солидные мужчины, обладатели дипломов и госнаград, один за другим начинали употреблять тот самый спирт. Сначала по праздникам, потом по выходным, а потом и в будни, потому что грань между ними стерлась.
Артем держался. Он держался из последних сил, глядя в испуганные глаза сыновей. Но творческая душа, не находя выхода в металле и стихах, искала забвения. Первая рюмка была горькой и обжигающей. Вторая – притупляющей остроту стыда. Третья – размывающей границы между кошмарной реальностью и временным небытием.
Он пил не для веселья, а для того, чтобы уснуть. Чтобы не видеть, как Светлана, убираясь в квартире, плачет от бессилия. Чтобы не слышать, как сыновья за стенкой шепчутся о чужих снах, в которых тоже было только падение. Он пил, и его творческий дар, не находя иного выхода, начинал творить кошмары наяву. Ему мерещились шепчущие тени в углах, а в гудении ветра он слышал голос отца из лагерной пыли.
Ссоры в доме стали таким же обыденным явлением, как скрип половиц.
“Опять? Артем, опять?! – голос Светланы из милого щебета превратился в надтреснутый крик. – Ты же видишь, в каком мы состоянии! Дети…”
“А что я могу сделать?! – рычал он в ответ, и в его глазах бушевала ярость, направленная на самого себя. – Предложи! Чертежими питаться будем? Я делаю все, что могу!”
Гриша и Витя, прижавшись друг к другу в своей комнате, слушали эти перепалки. Они чувствовали это всеми фибрами своих душ. Гриша был вынужден не только видеть кошмары чужих семей, но и проживать отчаяние собственного отца, которое било на него, как ударная волна. Витя пытался противостоять этому, насылая в квартиру запахи свежего хлеба или образы тихих садов, но его светлые сны разбивались о пьяное отчаяние, как стеклянные шары о бетон.
А за стенами их квартиры город стремительно делился на черное и белое, и белого было все меньше. На центральных улицах, как ядовитые грибы после дождя, выросли первые коммерческие киоски и ларьки, обшитые дешевым пластиком. Возле них стояли молодые парни в кожанках с пустыми глазами и тяжелыми взглядами. Они смотрели на таких, как Оранские, с холодным презрением. Это были новые хозяева жизни, и их сила была в кулаках и в отсутствии сомнений.
Артем, проходя мимо, чувствовал их взгляды на своей спине. Он, инженер, создававший сложнейшие механизмы, теперь был никем. Его знания, его талант, его дар – все это не стоило и горсти тех рублей, что эти парни с легкостью отсчитывали за пачку сигарет или бутылку водки. Расслоение было не просто экономическим – оно было экзистенциальным. С одной стороны – те, у кого была сила отбирать, с другой – те, у кого не осталось ничего, что можно было бы отнять, кроме последних клочьев достоинства.
И этот последний клочок ржавел, как корпус старого станка, брошенного под открытым небом. Артем чувствовал, как его воля, его сталь, та самая, что он так любил воспевать, покрывается рыжими пятнами бессилия. Он пил все чаще. Теперь не только дома, но и в гаражах, и в подсобках завода с такими же, как он, потерянными людьми. Они пили свой спирт, этот суррогат надежды, и говорили о прошлом, потому что будущее было слишком страшным, чтобы о нем думать.
Однажды вечером, придя домой особенно разбитым, он увидел, как Витя пытается “починить” сломанную табуретку, вкладывая в дерево свой дар, чтобы оно срослось. А Гриша, бледный, сидел в углу и смотрел в одну точку – он только что вернулся из чьего-то сна о грабеже.
Артем посмотрел на них, и в его пьяном, затуманенном сознании вспыхнула ясная, как удар ножа, мысль: он не может их защитить. Он не может дать им ни хлеба, ни безопасности, ни даже надежды. Он – проржавевший щит, который рассыплется при первом же ударе.
Он повернулся и вышел из квартиры, хлопнув дверью. Он не знал куда идет. Он просто шел, и каждый его шаг по темнеющим улицам города, который он когда-то любил, был шагом к последней черте. А за ним, незримо, тянулась темная, густая река его собственных снов, в которой уже не было ни металла, ни птиц, только тихая, всепоглощающая тьма.
Глава восьмая. О том, как сталь ломается
Тот вечер был из тех, что впитываются в асфальт вместе с кровью и остаются там навсегда, как несмываемое пятно. Артем шел по городу, не разбирая дороги. Ноги несли его сами, уводя от дома, где пахло бедностью и отчаянием, от взгляда жены, в котором он читал упрек, смешанный с жалостью, от тихих разговоров сыновей о снах, которые были страшнее любой реальности.
Он оказался возле нового коммерческого ларька, ярко освещенного, обшитого желтым пластиком. Он выделялся на фоне серых хрущевок как инородное, кричащее тело. Возле него стояли двое – Саша и Олег. Артем помнил их мальчишками, бегавшими на тренировки по боксу в спортзал завода. Теперь они были взрослыми, с пустыми, ничего не выражающими глазами и уверенностью в позе. Они разговаривали с Лидией Петровной, бывшей заведующей универмагом, а теперь владелицей этого ларька.
Артем приостановился, наблюдая. Он не слышал слов, но видел язык тела: агрессивные позы парней, высокомерно скрещенные руки Лидии Петровны, ее презрительную ухмылку. Она что-то резко бросила им в ответ, и ее жест был отточенным кинжалом. И тогда Олег, не выдержав, резко, с размаху, ударил ее по лицу не кулаком, а раскрытой ладонью. Это был не удар ярости, а удар унижения. Звук шлепка был негромким, но отвратительным.
И в Артеме что-то щелкнуло. Не благородный порыв, не героизм. Это было что-то глубинное, животное, отеческое. В этих двух озверевших пацанах он вдруг увидел призрачное будущее своих сыновей – будущее, в котором чтобы выжить, нужно было бить женщин и отнимать последнее.
Он подошел, шатаясь, но не от алкоголя, а от нахлынувших чувств.
“Лидия Петровна, идите домой”, – сказал он тихо, но так, что она послушно, потерши щеку, юркнула в темноту.
Парни обернулись. Узнали.
“Дядя Артем, – сказал Саня, скуляще. – Мы тебя знаем. Уважаем. Но это наш хлеб. Не лезь, а то будет хуже.”
Артем смотрел на них не с ненавистью, а с какой-то странной, пронзительной жалостью.
“Мужчина… – голос его был хриплым, но твердым. – Мужчина не может поднимать руку на женщину. Это не сила. Это гнусь. Если ты сильный, найди себе равного. Соперничай с мужчиной.”
Он снова повернулся к темноте, куда скрылась Петровна.
“Идите домой!” – крикнул он, уже приказывая. А потом обернулся к парням: “Теперь ее здесь нет. Стою я. Говорите со мной.”
Олег фыркнул.
“Артем, ты чего разнылся? Ты ж инженер. Ты с нами не выдержишь. Вали отсюда по-хорошему, пока целый.”
В глазах Артема вспыхнул огонек. Огонек последней, отчаянной решимости. Ему не было места в этом мире. Его знания были никому не нужны, его дар – проклят, его семья – нища. Но здесь и сейчас он мог сделать единственное, что оставалось. Он мог преподать урок. Он мог попытаться выбить из них эту грязь, эту новую “правду”, даже если это будет стоить ему жизни.
“Со щенками справлюсь”, – тихо сказал Артем.
И началось.
Первый удар Олега, быстрый, как змеиный язык, пришелся ему в висок. Искры брызнули из глаз. Второй, Сани, в солнечное сплетение, вырвал из легких воздух. Молодые, сильные, тренированные тела против одного, измотанного, немолодого, ослабевшего от алкоголя и горя.
Они думали, он упадет. Они думали, он сдастся, поползет, уйдет.
Но Артем не ушел. Он встал. Пошатываясь, плюнул кровью на асфальт и пошел на них. Он не бил с яростью. Он бил с отчаянием. Каждый его удар был криком: “Не будьте такими!” Каждый пропущенный удар был подтверждением его собственной ненужности.
Он не чувствовал боли. Вернее, чувствовал, но она была где-то далеко, за толстым стеклом. Хруст его собственного ребра прозвучал для него как сломанная ветка. Удар по лицу расплылся в мокрое пятно. Он падал. Поднимался. Снова падал.
Ребята сначала били с усмешками, потом с раздражением, потом со злобой. Их не остановить. Этот старый упрямый дурак не понимал правил игры.
“Хватит, дядя Тёма! Слышишь? ХВАТИТ!” – кричал Саня, в ярости снова сбивая его с ног ударом в лицо.
Но Артем продолжал, вставал, бил со всех своих сил, лежа хватал за ноги и ронял на асфальт. С каждым его ответом, братья били сильнее.
Олег в ярости продолжал бить уже лежачего Артема, а Саня пытался его безуспешно остановить.
И уже с жалостью проговорил:
“Ну зачем так, дядя Тёма? Мы же не хотели.”
Но Артем уже не слышал. Мир сузился до вспышек света в глазах и одного единственного образа – лиц его сыновей. Гриши, с его вечными кошмарами. Вити, с его тихими чудесами. Он видел их такими ясно, будто они стояли рядом.
“Простите…” – прошептали его губы, уже не способные издать звук.
Он понял, что это конец. Не героическая смерть, а жестокая, тупая, бессмысленная. Но в этой бессмысленности был его последний, отчаянный смысл. Он не убежал. Он не согнулся. Он попытался.
Последнее, что он почувствовал, – это не боль, а тяжелые удары подошв по голове. А потом – тишину. И в этой тишине ему показалось, что он слышит, как где-то совсем рядом, под самым асфальтом, течет река. И она плачет.
Глава девятая. О тишине, которая кричала
Известие пришло не звонком, а стуком в дверь. Тяжелым, мертвым стуком, который навсегда разделил жизнь Гриши и Вити на “до” и “после”. За дверью стоял участковый, молодой и очень бледный, и двое соседей, отводящих глаза. И пока взрослые говорили приглушенными, ломающимися голосами, Гриша и Витя стояли в дверях своей комнаты, понимая все без слов.
Они и так уже знали.
Гриша проснулся за час до стука, задохнувшись от чужой, чудовищной боли, в которой вдруг узнал отцовскую душу. А Витя, в ту же секунду, почувствовал, как из мира ушло что-то огромное и теплое, словно погасло огромное солнце, согревавшее их маленькую вселенную. В воздухе повис крик, который никто не услышал.
Потом был вой. Не плач, а именно вой. Светланин. Звук, который, казалось, рвет ткань реальности, выворачивает душу наизнанку. Она не рыдала, она выла, как раненый зверь, билась головой о косяк двери, и ее не могли удержать. Этот звук впивался в мальчиков острыми зазубренными крючьями, и они понимали, что никогда, никогда его не забудут.
Следующие дни слились в одно серое, безвоздушное пятно. Похороны прошли как в тумане. Гроб, цветы, чужие лица, искренние и не очень. Гриша все время сжимал руку Вити, и сквозь ладони между ними текли два разных вида горя: Гришино – острое, наполненное чужими образами той ночи, и Витино – тихое, глухое, как пустота после обвала.
Вернулись домой. Дом перестал быть домом. Он стал склепом, наполненным призраком Артема. Его недокуренная папироса на балконе. Его инженерные чертежи на столе. Его запах, который еще витал в складках штор. Светлана перестала быть матерью. Она превратилась в статую скорби. Она сидела на кухне, уставясь в одну точку, и не реагировала ни на что. Не готовила, не убирала, не говорила. Просто сидела, и из ее глаз беззвучно текли слезы, капля за каплей, словно источался сам ее жизненный сок.
Братья остались одни. Вдвоем против мира, который в одночасье лишился смысла и опоры. Они не говорили о случившемся. Слова были бесполезны. Вместо этого они молча делали то, что должна была делать мать. Витя, сжав губы, пытался сварить картошку. Гриша вытирал пыль, в которой видел отпечатки пальцев отца.
Ночью Гриша проваливался в кошмары. Но теперь это были не чужие сны. Это была та самая темная аллея, тот хруст костей, тот последний взгляд. Он просыпался, зажав рот рукой, чтобы не закричать и не напугать мать. И каждый раз, просыпаясь, он видел, что Витя не спит. Он сидит на своей кровати и смотрит на него в темноте, и в комнате стоит густой, как бульон, запах свежего хлеба – единственная защита, которую он мог предложить, единственное утешение, которое у него осталось.
Они спали в одной кровати, как в раннем детстве, прижавшись друг к другу спинами, пытаясь согреться в ледяном доме, где умер огонь. Их миры, всегда такие разные, теперь слились в одном горе. Гриша видел боль, а Витя пытался ее заткнуть светом. Но свет был слабым, а боль – бездонной.