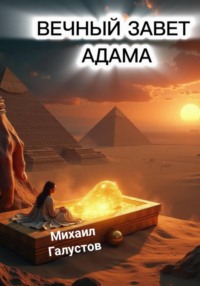Полная версия
Близнецы сновидений

Михаил Галустов
Близнецы сновидений
Глава первая. О том, как река решила стать морем
В те времена, о которых теперь вспоминают как о странном и дремучем сне, город Прибрежск на Оке был сыт и доволен собой. Он покоился на крутом берегу, будто исполинский кот на печке, и дымил в небо завидными, жирными дымами из труб “Прибрежскхиммаша” и “Текстильмаша”. Дымы эти были не вонючими, а сладковатыми, пахнущими деньгами и уверенностью в завтрашнем дне. Они были знаменем эпохи, когда у каждого был свой станок, свой участок работы, а по вечерам – свой столик в пивной “У Михалыча”, где пиво было густым, а колбаса отменной.
Город был пронизан светом: не только электрическим, что горел круглосуточно в цехах, но и светом человеческим. Таким светом, исходящим от полных сил мужчин в спецовках и женщин в рабочих халатах, что спешили по утрам на работу, солидно гудя, как пчелиный улей. Парки в Прибрежске были ухожены, карусели на детских площадках выкрашены в жизнерадостные цвета, а на стадионе по выходным неизменно собиралась толпа, чтобы поболеть за местную футбольную команду “Химик”, чьи победы переживались как личные триумфы.
В одной из пятиэтажек, с видом на ту самую, широкую и неторопливую Оку, жили двое, чья любовь казалась таким же неотъемлемым элементом городского пейзажа, как и заводские трубы. Артем Оранский, инженер с “Химмаша”, был человеком из той породы, что, кажется, уже не рождаются. Крепкий, с руками, способными и чертеж вывернуть, и станок починить, он носил в себе тайную вселенную и тяжкое наследство. Его отец, тоже Артем, прошедший ГУЛАГ, обладал даром видеть музыку в тишине и стихи в чертежах пулеметов. Этот дар и привлек к нему внимание людей в штатском, что привели к долгим годам в лагере за “идеологическую диверсию и создание абстрактных схем, порочащих советскую действительность”. Артем-младший унаследовал этот дар, но прятал его глубже, превратив в ночное ремесло. По ночам, когда город засыпал, он садился за стол, заваленный кипами инженерных расчетов, и выпускал на волю своих демонов – стихи и картины.
Стихи его не были похожи на другие. Он не писал о любви или о природе в привычном смысле. Он видел душу в металле. Однажды он написал целую поэму о том, как алюминиевая болванка, пройдя через станки, мечтает стать крылом самолета. А его картины… это были не картины маслом или акварелью. Он собирал на свалке ржавые шестеренки, обрезки проволоки, куски слюды и наклеивал их на фанеру, создавая поразительные коллажи. Люди, глядя на них, качали головами: “Красиво, Артем, но непонятно”. А он отвечал, улыбаясь: “Это же сны, ребята. Сны металла. Вот этой шестеренке снилось, что она солнце. А этому болту, что он дерево”. И лишь про себя думал о цене этого дара и о судьбе отца.
Женой его была Светлана, женщина, чья хрупкость казалась обманчивой рядом с его мощью. Она была его антиподом и его дополнением. Пока он творил из грубого, она творила из нежного. Ее любовь была тихой, но невероятно прочной, как паутина, способная удержать сталь. Когда Артем уходил в свои ночные бдения, она сидела рядом, шила или читала, и просто своим присутствием ограждала его от всего мира. Она смеялась его странным шуткам, хранила его “сны в металлоломе” и втайне верила, что он – самый великий художник на свете, просто мир еще не дорос до его понимания.
Их жизнь текла, как та самая Ока – полноводно, плавно и предсказуемо. Пока однажды весенней ночью Светлана не поняла, что пора. И пока Артем в панике бегал по квартире, собирая в роддом не то, что нужно, река, много лет дремавшая в своих берегах, внезапно проснулась.
Она не бушевала, не громила причалы. Она просто медленно, величаво, как королева, решившая прогуляться по своим владениям, вышла из берегов. Вода затопила нижнюю набережную, подобралась к гаражам и огородам, оставив на асфальте тину, несколько дохлых карасей и ощущение чего-то неотвратимого.
В эту же ночь, в роддоме Прибрежска, под вой ветра и приглушенный гул взбалмошной реки, на свет появились два мальчика. Первый, Григорий, закричал сразу, громко и требовательно, будто протестуя против самого факта рождения. Второй, Виктор, вышел молча, и лишь через минуту тихо всхлипнул, и акушерка потом клялась, что в ту секунду в родильной пахнуло не лекарствами, а свежеиспеченным хлебом и яблоками.
Артема, как и всех отцов, к роженице не пустили. Он метался у входа, куря папиросу за папиросой, пока утренняя смена санитарок не прогнала его от входа. Артём обошел роддом, встал под окнами и стал ждать. прижался лбом к прохладному стеклу окна палаты на первом этаже. И вот в окне показалась Светлана. Бледная, уставшая, но сияющая. Она бережно показала ему двух младенцев, обернутых в пелёнки, а потом прижала ладонь к стеклу изнутри. Он, затаив дыхание, прикрыл ее ладонь своей рукой снаружи, и сквозь холодное стекло между ними протекло молчаливое счастье и понимание, что жизнь разделилась на “до” и “после”.
Именно в этот миг за его спиной раздался скрипучий голос, от которого кровь застыла в жилах.
“Река-матушка предупредила. Неспроста.”
Артем обернулся. Перед ним стояла Агафья, староверка, которую в городе знали все и которую все побаивались. Маленькая, ссохшаяся, как лесной орех, она ходила босиком даже в мороз. Это она за год до того, ни с того ни с сего, пробормотала на рынке: “В цеху сушильном огонь проснется, трое посинеют”. Через месяц на “Текстильмаше” действительно произошел небольшой взрыв в сушильном цеху, трое рабочих отравились угарным газом. Это она, увидев портрет одного очень известного московского чиновника в газете, сказала: “Скоро землю грызть будет”. Чиновник скоропостижно скончался через две недели, о чём узнали все жители из новостей по телевизору. А совсем недавно, всего пару недель назад, она ходила по улицам и, глядя на запад, причитала: “Скоро оттуда ветер подует, несущий тихую смерть. Небо золою засыплет, но зола та будет не от огня, а от невидимого света, что пожирает плоть изнутри. Птицы слепые падать будут, и земля на том месте будет сто лет молчать, ибо металл, что там есть, дышит смертью”. Тогда эти слова показались такой дикой бессмыслицей, что их списали на обычное старческое брюзжание. Никто ничего не понял.
И теперь она стояла перед Артемом, и ее слепые на вид глаза были прикованы к окну роддома, за которым были его сыновья.
“Две реки в одном русле потекли, – проскрипела она, и ее слова обжигали, как лед. – Одна – все чужие слёзы видеть, другая – миру небывалое являть. Не заладится у вас, Артем Оранский. Знаешь сам, какая доля у зрячих в стране слепых.”
Артем похолодел. Он знал. Он помнил отца.
“Что будет?” – только и смог выдохнуть он.
“Русь-матушка… падет на колени, – голос Агафьи стал зловеще тихим. – Вместе с градом вашим. Заводы умрут, и люди забудут, кто они есть. Тяжко будет. Но богатыри духа пришли. Ни в мечах их сила, ни в руках, а в сердце. Они душу этого места исцелят, а потом… потом и всю матушку-Россию поднимут. С колен поднимут. До таких высот, что и не снилось никому. Чудо ваше в люльке лежит. От него сила пойдет, какая миру неведома.”
Она повернулась и поплелась прочь, растаяв в утреннем тумане, поднимающемся от отступающей воды.
Артем снова посмотрел в окно. Светлана, не видя и не слышавшей старухи, улыбалась ему, показывая сыновей. Гриша сжал кулачки, будто готовясь к бою с целым миром. Витя спал, и на его лице застыла блаженная, неземная улыбка. Сердце Артема сжалось от любви и леденящего страха. Он понял пророчество слишком хорошо. Он был сыном политзаключенного, носителем опасного дара. И его сыновья, только что рожденные, уже несли на своих хрупких плечах бремя спасения. Он знал, за все приходится платить.
Глава вторая. О быте, хлебе и ночных кошмарах
В те первые месяцы после рождения близнецов квартира Оранских на улице Мира превратилась в идеально отлаженный механизм счастья. Механизм этот был собран любовью и руками Артема, который, казалось, обрел второе дыхание. По ночам он уже не складывал из ржавых болтов лики ангелов, а мастерил из фанеры и ваты мобиль, где вместо зверушек кружились вырезанные из поролона и разукрашенные планеты. Он сам, не дожидаясь просьб, сконструировал и собрал по чертежам из журнала “Радио” стиральную машину-полуавтомат, чей грохот был похож на взлет ракеты, но зато спасал Светлану от бесконечной стирки в тазу.
Он был не просто отцом – он был инженером отцовства. Он менял пеленки с сосредоточенностью хирурга, совершающего сложнейшую операцию, и пеленал сыновей так туго и аккуратно, что те походили на два стройных, пахнущих молоком и детским мылом свёртка. Он варил манную кашу, без единого комочка, и качал коляску ногой, читая вслух Светлане, уставшей после бессонной ночи, то статью из “Техники молодёжи”, то только что сочинённый экспромтом стишок про ползунки с оторванной пуговицей.
И странное дело – близнецы, вопреки всем ожиданиям хаоса, были на редкость вдумчивыми и спокойными младенцами. Они лежали в своей общей кроватке и смотрели на мир большими, разными глазами: Гришин взгляд был цепким и изучающим, Витин – рассеянным и обращённым куда-то вглубь себя. Они редко плакали, разве что от голода или мокрых пелёнок, и засыпали, убаюканные мерным гулом города и тёплым голосом отца.
Однажды вечером, когда за окном садилось малиновое советское солнце, окрашивая дым от “Химмаша” в праздничные тона, Артём укладывал сыновей. Светлана, обессиленная, уже дремала на подушке. Витя, как всегда, отключился почти мгновенно. И в тот миг, когда его дыхание стало ровным и глубоким, Артём, поправлявший одеяло, замер. По комнате, чистой, пропахшей молоком и мылом, пополз иной, невозможный запах. Сладковатый, плотный, живой. Запах только что испечённого, дымящегося ржаного хлеба. Он исходил ниоткуда, заполняя собой пространство, осязаемый, как мебель в комнате. Артём понимающе улыбнулся, посмотрел на спящего Витю и тихо произнёс: “Расти, хлебодар. Расти.”
Но если дар Виктора был тихим и благостным, как благословение, то дар Григория обрушился на дом внезапно и страшно.
Случилось это глубокой ночью. Город спал. В квартире была тишина, нарушаемая лишь посапыванием Светланы и ровным дыханием младенцев. И вдруг этот покой разорвал крик. Не плач, не капризный всхлип, а пронзительный, животный, идущий из самой глубины маленького существа вопль ужаса.
Гриша не просто кричал. Он выл, бился в кроватке, его глаза были закрыты, а крошечное тело напряжено до дрожи. Светлана вскочила как ошпаренная, с испуганным лицом кинулась к кроватке, пытаясь взять его на руки, но он выгибался, не узнавая её. Отчаянный крик ещё чуть-чуть и разбил бы стёкла.
“Гришенька! Родной, что с тобой?” – лепетала она, в панике ощупывая его лоб, руки, ноги. Температуры не было. Сухой. Чистый.
Артём уже стоял рядом, бледный, с зажжённой свечой в руке (свет во всем квартале вдруг погас – плановое отключение).
“Колики, наверное, – сказал он голосом, в котором Светлана с её чутким слухом уловила фальшивую ноту. – Или просто приснилось что-то.”
“Приснилось? Такому малышу? Что такого должно было приснится? Так не кричат от сна, Артём!” – она прижимала к себе орущее, неумолимое тельце, а сама смотрела на мужа с мольбой и ужасом.
Артём знал, что это не колики. Он знал, что Гриша не просто проснулся. Он знал, что его сын, его маленький Воспреемник, только что провалился в чужой кошмар. Куда конкретно, он не знал. В кошмар пьяницы дяди Миши с третьего этажа, которому снилось, что его заживо замуровывают в стене цеха. Или в ночной ужас соседской девочки-подростка, которую во сне преследовала безликая тень. Гриша вобрал в себя этот страх, этот чистый, неразбавленный ад, и его психика, не имея слов, выплеснула его наружу единственным доступным способом – первобытным криком.
“Всё хорошо, Света, всё пройдёт, – говорил Артём, беря у неё Гришу на руки и начиная мерно раскачиваться. – Вот видишь, просто испугался. Бывает у детей. Нервы.”
Он ходил с ним по комнате, напевая под нос бессмысленную, убаюкивающую песенку, а сам смотрел в тёмное окно, за которым спал его город – город, полный чужих, невидимых для всех, кроме его сына, кошмаров. Он чувствовал, как маленькое сердце Гриши колотится о его грудь, как судорожные всхлипывания постепенно стихают, сменяясь истощённой дрёмой.
Светлана, всё ещё дрожа, смотрела на них. Она не верила в колики. Она видела в крике Гриши что-то первозданное и ужасное, чего не могла понять. И впервые за все месяцы безмятежного счастья в её душу закралась холодная, тонкая трещина страха.
А в это время Витя, разбуженный криком брата, лежал с открытыми глазами. Он не плакал. Он был спокоен. И в воздухе, смешиваясь с запахом страха, вновь витал едва уловимый, тёплый и добрый дух свежего хлеба, будто пытаясь им ответить, защитить, исцелить. Две реки текли в одном русле, и берега их только начинали проступать из тумана.
Глава третья. О том, как сны научились говорить
Годы текли над Прибрежском тем же неторопливым, полноводным течением, что и Ока. И для семьи Оранских они были на удивление ясными и солнечными. Близнецы росли, окруженные такой любовью, что она становилась почти осязаемой, как теплый воздух в комнате после долгого проветривания. Светлана, чья хрупкость с рождением сыновей обернулась стальной, но нежной силой, была для них живым воплощением доброты. Ее руки умели не только стирать и готовить, но и гладить по макушке так, что любая боль отступала, а ее голос мог рассказать сказку, в которую верилось безоговорочно.
Артем же был для мальчиков волшебником и первооткрывателем. Он не просто чинил сломанные машинки – он оживлял их, наделяя историей. Он не просто учил читать по азбуке, разложенной на полу, – он складывал из букв мосты в другие миры. К пяти годам Гриша и Витя уже вовсю щеголяли перед мамой умением прочесть вывеску “Гастроном” и могли пересчитать все свои солдатики. Но главные уроки происходили не за столом.
Однажды летним вечером, когда в квартире пахло вареной картошкой и укропом, а за окном гуляли дотемна другие ребята, братья устроились в своей комнате, в самом безопасном месте на свете – крепости, построенной из стульев и одеял.
“Вить, а как ты делаешь, что пахнет хлебом?” – спросил Гриша, разбирая деревянный паровоз.
Витя, строя башню из кубиков, нахмурился, весь превратившись в усилие.
“Я не делаю. Оно само. Я просто думаю о чем-то вкусном. О бабушкиных плюшках. Или о том, как мы с мамой в деревне у печки сидели. И тогда… тогда у меня внутри становится тепло, и запах выходит.”
“А у меня… у меня не бывает вкусных снов, – тихо признался Гриша, глядя в пол. – Мне всегда кто-то чужой снится. Сегодня дядя Вова с пятого этажа. Ему снилось, что он тонет. Вода холодная-холодная, и кричать не можешь. Я проснулся и долго не мог дышать.”
Витя бросил кубик и посмотрел на брата с детским, неподдельным ужасом.
“Ты живешь в чужих снах? Как в кино? А они… они тебя там не бьют?”
“Не бьют, – Гриша покачал головой. – Но иногда там так страшно, что я потом кричу. А ты… ты можешь сделать сон, где нет страшно? Чтобы дяде Вове не тонуть?”
“Не знаю, – честно сказал Витя. – Я могу сделать, чтобы пахло яблоками. Или чтобы было чувство, будто тебя мама обняла. А чтобы сон чужой изменить… Я не пробовал.”
Артем как раз проходил мимо, неся на кухню разобранный для починки телефон. Услышав обрывки разговора, он замер у двери, и сердце его сжалось. Он знал, что этот день настанет, но не думал, что так скоро. Дети говорили о своих дарах так же просто, как о новых игрушках, но в их словах была бездна, в которую страшно было заглянуть.
Он отодвинул полог из одеяла и вошел в их крепость. Два пары больших, испуганно-удивленных глаз уставились на него. Они поняли, что подслушали.
“Пап, мы просто…” – начал Гриша.
Артем сел на корточки, чтобы оказаться с ними на одном уровне.
“Я слышал, – тихо сказал он. – Про хлеб. И про дядю Вову.”
Витя потупился. Гриша сжал кулачки, готовый к отпору. Но отец не ругался. Он улыбнулся, и в его улыбке была легкая, едва уловимая грусть.
“Вы не делаете ничего плохого. Так бывает. У некоторых людей… слух абсолютный. А у других – другой дар.”
“Что такое дар?” – спросил Витя.
“Это как особое зрение, – подбирал слова Артем. – Ты, Витя, видишь то, чего нет, но что могло бы быть. Красивое, доброе, теплое. И ты можешь это… проявить. А ты, Гриша, – он положил руку на плечо старшему сыну, – ты слышишь то, о чем другие молчат даже во сне. Их боль, их страхи, их слёзы. Это тяжело. Очень тяжело.”
“А у тебя есть дар?” – Гриша смотрел на отца с внезапной надеждой, что он не один.
Артем кивнул. Он встал, подошел к полке и взял одну из своих металлических картин – сплетение проволоки и ржавых пружин, в котором угадывался силуэт летящей птицы.
“Видите? Люди смотрят и видят хлам. А я… я вижу сон этой пружины. Ей снилось, что она – птица. И я помогаю ей этим сном поделиться. Я… переводчик. С языка снов на язык вещей.”
Братья с благоговением смотрели на него. Их собственные странности вдруг обрели смысл и вес. Они были не чужими, не больными – они были продолжателями чего-то важного.
“А это… это из-за дедушки? Того, который там… в лагере?” – тихо спросил Гриша. Он слышал обрывки взрослых разговоров.
Тень пробежала по лицу Артема.
“Отчасти. Но наш дар – он не только от дедушки. Он… от самой земли нашей. От реки. От этого города. Он и благословение, и испытание.”
Он снова присел перед ними, и голос его стал серьезным, почти суровым.
“Запомните, оба. Никогда и никому не рассказывайте о своих снах. Ни маме, ни друзьям, никому. Мир… он не всегда готов принять тех, кто видит и слышит слишком много. Понимаете?”
Они кивнули, впечатленные его тоном.
“А ты… ты сможешь научить нас? – в голосе Вити слышалась мольба. – Как не бояться? Как делать правильно?”
Артем глубоко вздохнул, глядя в два пары ждущих глаз – одни, полные ночных ужасов, другие – невинных грез.
“Я попробую, – сказал он. – Но для этого нам нужно будет сходить в одно место. Особенное место.”
“Куда?” – хором спросили братья.
“На другую реку, – таинственно произнес Артем. – Она течет под нашей. И называется Подтесень. Но это… в следующий раз.”
И он вышел из крепости, оставив за собой шлейф самой волнующей интриги в мире, в котором чудеса только-только начинали поддаваться названиям.
Глава четвертая. О времени, что текло как патока
После того разговора в крепости из одеял жизнь в квартире Оранских приобрела новое, трепетное измерение – измерение ожидания. Для Гриши и Вити слово “Подтесень” стало магическим ключом, отпирающим дверь в настоящую тайну. Оно витало в воздухе за завтраком, когда они ели манную кашу, притаилось в скрипе половиц, когда они ложились спать, и шепталось им в уши вместе с шуршанием листьев за окном.
Сначала они ждали с восторженным нетерпением. Каждое утро Гриша, проснувшись, первым делом спрашивал: “Пап, мы сегодня пойдем на ту реку?” И Витя, еще не открыв глаз, уже обреченно кивал, словно говоря: “Да-да, конечно пойдем”.
Но Артем всякий раз находил причину для отсрочки. То на работе аврал – нужно было срочно пересмотреть чертежи для нового узла “Химмаша”. То погода стояла не та, хотя какая была та, он не объяснял. То нужно было помочь Светлане с генеральной уборкой, перебрать картошку в кладовке или починить протекающий кран у соседки тети Мани.
“В следующий выходной, – обещал он, и в его глазах читалась непростая смесь желания и опасения. – Обязательно.”
Шли дни, недели. Ожидание, сладкое и мучительное, начало менять свою природу. Оно превратилось в терпкий осадок на дне повседневности. Мальчики стали замечать то, чего не замечали раньше. Они видели, как папа, пообещав, вдруг замолкал и смотрел в окно на Оку долгим, отрешенным взглядом. Как его веселье порой становилось чуть слишком громким и нарочитым, словно он пытался заглушить им собственные мысли. Как его руки, такие уверенные за станком или с инструментом, иногда слегка дрожали, когда он зажигал вечернюю папиросу.
Их собственные дары, тем временем, крепли и требовали выхода.
Однажды Витя, расстроенный тем, что сломал любимую машинку, так сильно захотел утешения, что в гостиной внезапно запахло яблочным пирогом. Запах был настолько явственным, что Светлана, читавшая на кухне, даже поднялась проверить духовку.
“Ничего не пеку, Артем, – сказала она мужу с легким беспокойством. – А мне почудилось…”
Гриша же все глубже погружался в ночной океан чужих снов. Он уже контролировал себя и не кричал от ужаса, но просыпался в холодном поту, с глазами, полными чужой боли. Однажды утром он рассказал Вите, что видел сон дяди Коли, водителя автобуса. “Ему снилось, что он везет людей в никуда, а дорога все сужается, и вот уже колеса катятся по краю пропасти, и все молчат…”
Витя слушал, широко раскрыв глаза, и его собственный, тихий дар в ответ робко пытался создать в комнате ощущение безопасной, крепкой стены.
Ожидание Подтесени стало для них метафорой взросления. Они поняли, что обещания взрослых – не всегда твердая валюта, что за ними могут стоять страх, сомнение и какая-то непонятная, тяжелая ответственность. Их счастливый, защищенный мир начал обрастать первыми, едва заметными трещинками.
Наконец, однажды субботним утром, когда за окном бушевал первый осенний ураган, срывая последние листья с берез, Артем собрал сыновей в гостиной. Лицо его было серьезным и решительным.
“Завтра, – сказал он просто. – Идем. Погода будет подходящей.”
“Но завтра же дождь!” – воскликнула Светлана, услышав это из кухни. Она знала, что он обещал мальчикам погулять у реки, но не знала, что речь идёт не об Оке.
“Именно потому и идем, – ответил шепотом Артем, глядя на сыновей. – В такую погоду там никого не бывает.”
В ту ночь братья почти не спали. Гриша ворочался, прислушиваясь к вою ветра, который теперь казался ему не угрозой, а зовом. Витя лежал с открытыми глазами, и в темноте вокруг него то и дело возникали короткие, как вспышки, образы – отблеск на воде, которого он никогда не видел, тень от несуществующего дерева. Они боялись и жаждали этого момента с одинаковой силой. Ожидание закончилось. Впереди была река, текущая под рекой, и отец, наконец готовый стать их проводником в мир, где правила пишутся не людьми.
Глава пятая. О реке, что течёт под рекой
Утро было серым и слезливым. Дождь, не сильный, но назойливый, застилал город мокрой пеленой. Артем молча одевал сыновей в непромокаемые плащи и сапоги, лицо его было сосредоточенным и суровым. Светлана с беспокойством смотрела на них, но не спрашивала ни о чем. Она давно поняла, что между отцом и сыновьями есть связь, в которую ей не суждено проникнуть.
Они шли по пустынным улицам, минуя облезлые хрущевки и заснувшие до весны скверы. Город в такую погоду казался вымершим. Артем вел их не к главной набережной, а в сторону старых, полузаброшенных складов у воды, к месту, где когда-то был деревянный причал для маломерных судов. Теперь от него остались лишь скользкие, прогнившие бревна, уходящие в мутную воду Оки.
“Стойте здесь и не двигайтесь”, – приказал Артем, подходя к самой кромке воды. Он вытащил из кармана небольшой предмет – камешек с дырочкой, который когда-то нашел в кармане у Вити (ему снился сон о море, где он был вместе с отцом и братом). Теперь он был их общим якорем.
Артем зажал камень в ладони, закрыл глаза и что-то прошептал, слова тонули в шуме дождя и ветра. Гриша и Витя, затаив дыхание, смотрели, как пространство перед отцом начало колебаться, как нагретый воздух над асфальтом. Воздух над водой у старого причала сгустился, пошел рябью и, наконец, разорвался, как гнилая ткань. За ним открылся не проход, а скорее ощущение прохода – дрожащая светом дверь в иное измерение.
“За мной. Быстро и не оглядывайтесь”, – строго сказал Артем и шагнул в пустоту.
Братья, держась за руки, последовали за ним. Миг головокружительной легкости, словно падение во сне, – и они оказались на берегу.
Но это был не берег Оки.
Воздух был неподвижным и густым, пахнущим озерной водой, прелыми листьями и чем-то еще – смутной памятью, тревогой, мечтой. Небо над головой было не серым, а переливающимся, как масляная пленка на воде, и на нем не было ни солнца, ни туч. А перед ними текла Река. Она была не из воды, а из света, тени, цвета и звука. Ее волны были прозрачными и вязкими, как сироп, и в них, словно капли масла, переливались обрывки образов: чье-то смеющееся лицо, летящая птица, горящее окно, знакомый силуэт завода. Течение было медленным, почти ленивым, но в его глубине чувствовалась огромная, неспешная сила.