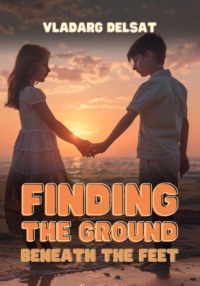Полная версия
Душе не давая сгибаться
Она неуверенно кивает, а я её глажу на прощанье и к следующему перехожу. Разговариваю с ними обязательно. Потому что врачам некогда, а так только разве что санитарка доброе слово скажет. Я была на месте этих малышей, чуть ли не полгода в больнице провела, испугалась и натосковалась страшно просто, но всё уже хорошо. И с ними, конечно же, будет. Особенно с малышкой, имя которой я не посмотрела. А вот же оно, Оля Ермолаева у нас сейчас завтракать будет. Я с градусниками закончу, и сразу же завтрак.
Привычно мне уже это занятие. И никто не жалуется сегодня, не лихорадит, значит, день хороший будет. И с этими мыслями я иду относить журнал, потому что меня учитель ждёт. Очень мне любопытно, что он задумал…
***
Константин Давыдович решил мне операцию показать. О том, что операционная стерильна, я знала и раньше, но вот как нужно готовиться – это новое для меня знание. Кроме переодевания полного, мытьё начинается, пусть даже я не буду участвовать, но всё равно. Тётя Лена мне показывает, и где халат, и как полностью убрать волосы.
– Смотри, моешь руки до локтей – вот мыло, вот щётка, – протягивает она мне щётку на ручке. – Как помыла, не вытираешь.
Я киваю, потому что читала об этом. При этом даже медсестре помогают, потому что помытые руки надо держать кистями вверх – они так просыхают, и ни к чему прикасаться нельзя. Дальше их протереть надо спиртом и сулемой, от которых стягивает немного кожу. Ну и запах, конечно, с которым ничего не поделаешь.
– Молодец, – хвалит меня тётя Лена за то, что правильно руки держу.
А я стараюсь сдержать дрожь, ведь впервые я вхожу в святая святых – операционную. Однажды я войду сюда как врач, но до того мне предстоит увидеть, как оно бывает на самом деле, и не испугаться. Я понимаю: потом Константин Давыдович будет меня расспрашивать и о ходе операции, и о том, зачем она была нужна. Он уже делал так, но на историях болезни, а вот сейчас решил дать практический опыт.
Мама говорит, что учитель слишком торопится, стараясь вылепить из меня полноценную медицинскую сестру – на все руки мастера, и причин для такой спешки она не видит. А я так думаю: если Константин Давыдович торопится, значит, так надо. Может быть, он меня проверяет, уча всему этому, чтобы мне потом было проще учиться или… может, это эксперимент какой, кто же знает?
– Куда локти растопырила! – прикрикивают на меня, отчего я вмиг прижимаю их к себе.
Мои руки на уровне груди, при этом ття Лена помогает мне халат надеть, ещё один, кстати, объясняя, как правильно это делать, а затем приходит очередь перчаток. Длинные резиновые перчатки, и помочь себе я не могу – всё должно быть стерильно. Толстые они, не чувствуется внутри ничего, но, наверное, я привыкну. Врачи же работают? Значит, и я смогу!
Теперь я понимаю, зачем хирургам так важно руки беречь – они очень чувствительные должны быть. А мне в это время повязывают маску, и я уже совсем готова. Тётя Лена уже ушла мыться, а незнакомая медсестра показывает мне место для стояния.
– Тут ты всё увидишь, – голос у неё низкий, но мелодичный. – Смотри, операционная сестра должна проверить инструментарий, чтобы всё было на своих местах, во время операции искать будет некогда.
– Поняла, – киваю я и застываю, ожидая команду.
На столе уже готовый к операции мальчик лежит. Судя по тому, как именно, оперировать ему будут справа, то есть, скорее всего, острый живот – аппендикс вырезать. Это, кстати, чуть ли не основной диагноз в хирургии, хотя бывают и посложнее. Мальчик уже под наркозом, можно начинать. Как будто подтверждая эту мысль, входит доктор. Едва узнаю учителя, потому что он даже внешне сейчас другой – настоящий врач, с большой буквы.
– Ага, Валерия тут, остальные готовы, – кивает Константин Давыдович. – Ну-с, начнём, товарищи.
Операционная – это просторная комната, прямоугольная, пол плиткой выложен, кажется, так она называется. И стены тоже, на самом деле. Запах в ней специфический, операционный, как его мама называет, спирта, мыла и, кажется, эфира. Свет очень хорошо освещает то место, которое резать будут, так что, похоже, я не ошиблась. Итак, представить, что передо мной кукла просто, а кровь – это чернила, чтобы меня впечатлить…
Бак, выложенный марлей, рядом стоит, значит, я правильно думаю, ведь отрезанную часть никто хранить не будет. Я переступаю с ноги на ногу, едва лишь не задев столик на колесиках, но этого, слава Марксу, никто не видит. А учитель тем временем кладёт первый разрез.
Почувствовав дурноту, продолжаю убеждать себя, что всё передо мной не настоящее, и это помогает. Я медленно прихожу в себя, внимательнее уже наблюдая за ходом операции. На самом деле аппендэктомия – так официально такая операция называется – простая очень. Сделать что-то не так тут почти невозможно, поэтому задача в моём случае была, наверное, просто не напугаться вида крови. Это у меня получается, так что я уже нормально рассматриваю, и как отрезает, и как зашивает живот мальчишке, которому мне в понедельник градусник выдавать, мой учитель.
Это моё первое боевое крещение, так можно назвать произошедшее, поэтому я счастлива. Именно сегодня я сделала шаг не просто в медицину, а именно в хирургию, которая мне безумно просто нравится.
– Стоит? – интересуется учитель.
– Молодцом держится, – отвечает ему тётя Лена, обнаружившаяся позади.
– Значит, будет из неё со временем настоящий хирург, – удовлетворённо резюмирует Константин Давыдович.
И тут только я понимаю, что говорили обо мне. Получается, что хвалят, и это очень приятно. Затем следует команда «размываться» – это значит, что нужно снимать с себя всё и затем, ещё раз помыв руки, идти в отделение. На самом деле, конечно, не в отделение, а ждать Константина Давыдовича, чтобы рассказать ему, что я увидела и что поняла.
– Ну как ты? – слышу я мамин голос, едва только выхожу из операционного блока. Она меня внимательно осматривает и начинает улыбаться затем.
– Я хорошо, мамочка, – улыбаюсь ей, чтобы не волновать, ведь действительно всё ладно получилось.
– Большая молодец ваша дочь, Елизавета Викторовна, – замечает тётя Лена, оказавшись позади меня. – Выстояла, не упала, смотрела внимательно. Константин Давыдович очень хвалил.
– Молодец, Лерка, – хвалит меня и мама, отчего мне очень улыбаться хочется – мама же похвалила!
Пожалуй, именно сегодня я сделала свой главный шаг, сумев проверить решимость быть хирургом. Я знаю, тётя Лена ожидала, что я сознание потеряю, но я справилась, чем, конечно, удивила её. И вот по дороге к кабинету учителя она рассказывает, что молодые медицинские сёстры, бывает, падают в обморок в первый раз, и это нормально. Ещё я узнаю, отчего меня на операцию позвали – я эксперимент Константина Давыдовича с разрешения самого товарища Гиммельфарба. Он хочет доказать, что, готовя медсестру с начальной подготовкой практически, можно добиться больше успехов, чем традиционным способом.
Другой кто обиделся бы, но я не буду, мне даже очень приятно, что именно я стала экспериментом, ведь у меня есть цель. И к этой цели я иду всю мою жизнь. Поэтому я очень даже рада, вот!
Прощание с Алешей
«Здравствуй, папка!
Наконец-то письмо от тебя! Я рада, что ты здоров и бьёшь проклятого фашиста! Мы с мамой тоже здоровы. Знаешь, вчера я впервые оказалась в операционной! Правильно я решила в хирурги идти, очень мне это дело нравится, поэтому я буду хорошо учиться, чтобы ты мог мной гордиться! Так хочется, чтобы война поскорей закончилась…»
Будильник звенит как-то заполошно, по-моему. Я вскакиваю, в первый момент даже и не вспомнив, отчего в такую рань-то. Время суток определить сложно – светомаскировка. Надо папино поручение выполнить не забыть, потому что он лучше знает, как поступать правильно. С такими мыслями я приступаю к ежедневному занятию, ведь мне скоро на вокзале быть надо.
Наверное, мы начали привыкать, хотя на воздушные тревоги ещё заторможенно реагируем, но я уже знаю, где у нас бомбоубежище. На чердаке, кстати, есть вода и песок на случай пожара. Ленка в дружинницы записалась, а нас многое не касается – мы медики. Оказывается, есть распоряжение беречь медиков, вот нас и берегут, потому что мы считаемся на боевом посту. И я тоже, поэтому медицинская школа согласна на то, что – потом. Константин Давыдович говорит, что сам всему научит, только экзамены сдать надо будет.
Вчера меня много хвалили, а ещё учитель сказал, что пора меня к самостоятельной работе допускать, раз я такая ответственная. Из чего был сделан вывод об ответственности, я не знаю… А ещё к нам вечером домуправ приходил – улыбчивый старичок – ему уточнить надо было о нас. Узнав, что мы с мамой в больнице работаем, сразу же распрощался. Мне, кстати, в больнице рассказали, что я теперь мобилизованная, хоть и несовершеннолетняя.
К завтраку я выхожу уже одетая, ожидаемо маму увидев, хоть и не хотела бы её беспокоить, но это же мама. Она, конечно же, всё помнит, и я очень этому рада. Мама очень по-доброму на меня смотрит, увидев сейчас. Она, конечно, не отдохнула, но встала ради меня.
– Доброе утро, Лерочка, – ласково произносит она. – Хорошо спала после вчерашнего?
– Ты знаешь, мамочка… – я даже задумываюсь на мгновение. – Очень даже неплохо, только…
– Алексей снился? – она будто бы мысли читает!
– Да… – тихо отвечаю я, совершенно смутившись, потому что не могу себе объяснить подобного.
– Это хорошо, дочка, – мама вздыхает, – пусть у него кто-то будет. А дружба это или ещё что – потом узнается.
Вот эта мамина фраза заставляет призадуматься. Это, правда, завтраку не мешает, но заставляет думать об Алексее совсем иначе. Я всё думала же, как сама к нему отношусь, а о нём-то и забыла! А он сирота, и сегодня, наверное, на фронт отправляется. Кто знает, что его там ждёт… Буду ему подругой или, может, сестрёнкой, ведь это же плохо, когда совсем никого. Если Алексей будет знать, что я его жду, то ему же легче будет? Папа всегда говорил: «Любому очень важно, чтобы у него кто-то был». Может быть, мама имеет в виду именно это? Тогда я буду!
Закончив с едой, бросив взгляд на часы, начинаю собираться быстрее. Когда вернусь, надо будет выполнить папино распоряжение – снять стёкла, не везде, но снять, и заменить их фанерой. Воздушная тревога уже была, может случиться и настоящая. Как она бывает, я не знаю, конечно, но если папа сказал, что нужно заменить стёкла, то так и сделаю.
В газете писали о том, что полоски бумаги и газеты надо на стекло наклеить. Значит, стёкла могут разбиться, а фанера не разобьётся. Она с одной стороны чёрной краской окрашена, поэтому будет удачно для светомаскировки, и лампочку с улицы видно не будет. Надо будет, кстати, проверить, или попросить кого проверить… А сейчас уже убегать нужно.
– Документ не забудь, – напоминает мне мама, на что я благодарно киваю.
В больнице мне выдали, потому что я ж несовершеннолетняя, паспорта у меня нет. А там написано, что я младшая медицинская сестра отделения хирургии детской больницы имени Раухфуса. Место проживания и даже моя фотокарточка имеется. В Ленинграде же военное положение, поэтому патрулю нужно обязательно быстро установить, кто я и откуда. Мне так тётя Лена объяснила, и я приняла это объяснение.
Жаль, что не услышала утреннюю сводку, наверное, на вокзале услышу, а сейчас меня уносит пустой трамвай по уже знакомому маршруту. Один и тот же, получается, у меня маршрут почти. Сейчас у нас раннее утро воскресного дня, но вот ощущения праздника нет совсем. Начавшаяся война, все известия последних дней, да и объявления о строительстве укреплений отменили все праздники до конца войны.
На нашу страну напал враг! Страшный, коварный, подлый! Но наверняка германские рабочие и крестьяне обязательно поднимут восстание, чтобы свергнуть тех, кто напал на первое в мире государство, построенное такими же, как они. Ведь не зря же по радио говорили, что войну нам навязали всякие буржуи, купающиеся в крови трудового народа. Поэтому надо ещё немного подождать, ведь наше дело правое!
Я смотрю в окно, сидя в пустом вагоне, а за ним совершенно изменившийся всего за неделю постепенно становящийся любимым Ленинград. Колыбель Революции, город Ленина, снова, как и много лет назад, готовится к бою. Это хорошо заметно по мешкам, закрывающим нижние витрины, по тому, как маскируют здания, то здесь, то там можно строительные леса увидеть… Фашисты наверняка постараются уничтожить красоту, ведь они физически не переносят ничего красивого. Об этом и на собрании говорили, что фашисты от настоящей красоты злятся страшно, просто бесятся, и потому всё хотят поскорее уничтожить.
Трамвай приближается уже к нужной остановке, она у него конечная, по-моему, уже и цель моего путешествия видна. Я не знаю, куда именно нужно, но, думаю, найду. С этими мыслями и выхожу в раскрывшиеся передо мной двери. Спешу в сторону знакомого уже здания, мы, кажется, тоже на Балтийский приезжали, так что место не так чтобы совсем чужое, да и похожи все вокзалы один на другой.
– Гражданка, предъявите документы! – слышу я требовательный голос, удивлённо разворачиваясь в сторону внезапно обнаруженного патруля. Двое моряков с винтовками мне кажутся просто огромными.
– И чего ты её остановил, девчонка совсем! – сердится высокий моряк на своего товарища, но тут я протягиваю документ, и патрульный мгновенно меняется.
– Что тут? – интересуется как-то оказавшийся позади меня командир, появляясь передо мной. – Заняться нечем?
– Это медсестра, товарищ капитан-лейтенант, – протягивает мой документ один из моряков. – Наверное, своего провожать прибежала. Разрешите?
Какое-то чудо, по-моему, происходит. Патрульные выглядят вполне обычно, только повязки красные показывают, что они не просто так с винтовками погулять вышли. Но как только узнают, что я медсестра, сразу же очень вежливыми становятся, а командир даже разрешает меня проводить туда, где Алексей… Они со мной обращаются так, как будто я сестра им или подруга близкая. Интересно, отчего так?
***
Алексея я вижу издали, рванувшись в ту сторону, но флотский командир придерживает меня, махнув кому-то рукой. Вокруг много людей, стоят моряки… Ой, они в строю же стоят! Нельзя их трогать, когда в строю, и подбегать нельзя. К нам уверенно подходит другой командир в чёрном… кажется, это «бушлат» называется. Он от других отличается только петлицами и нарукавным знаком. На рукаве у него звёздочка желтая и двойная полоска, а в петлицах… Три кубаря, значит, старший лейтенант. Только я читала, что во флоте нет такого, чтобы одновременно и то, и другое. Наверное, это что-то означает, только непонятно, что.
– Чем могу помочь? – интересуется товарищ старший лейтенант у начальника патруля.
– Разреши сестричке с родной душой попрощаться? – просит его товарищ капитан-лейтенант. – Который тут твой? – спрашивает он уже меня.
– Вон там, Алексей, – показываю я на только что увидевшего меня курсанта. Алексей сильно удивляется.
– Хорошо, – кивает товарищ старший лейтенант и кричит в сторону строя: – Курсант… Рядовой Найдёнов! Выйти из строя! Ко мне!
Алексей бежит к нам, отдав кому-то скатку и вещмешок, а вот винтовка при нём, не расстаётся он с ней. Это правильно, потому что за утерю оружия и до войны могло быть очень грустно, папа рассказывал, поэтому я очень даже понимаю.
– Видишь, юная совсем, а уже сестра милосердия, – слышу я негромкий разговор за спиной, наблюдая за Алексеем. – Может…
– Парень сирота, – вздыхает товарищ старший лейтенант. – Она у него единственная близкая получается…
И в этот момент Алексей до нас добегает, сразу же принявшись докладывать, но товарищ старший лейтенант его прерывает, на меня кивнув. Он по-доброму улыбается, лишь одно слово бросив:
– Прощайтесь.
Я застываю, глядя на парня, не зная даже, что сказать, а он просто смотрит мне в глаза, как тогда, неделю назад, когда всё только началось. Я же ощущаю себя так, будто заплакать хочу, но Алексей, как очнувшись, берёт меня за руку, отводя к стенке, чтобы на проходе не мешаться.
– А меня в морскую пехоту взяли, – говорит он мне. – Если бы на корабль, а так…
– Зато ты будешь бить проклятых фашистов, – говорю это, а плакать хочется всё горше, но я держусь, не маленькая же. Хоть и чувствую себя, как в детстве, когда папа в первый раз…
– Буду защищать тебя, – улыбается он мне. – А ты… будешь писать?
– Обязательно! – клятвой звучат мои слова. – Каждый день буду, хочешь?
– Очень… – признаётся Алексей… Алёшка… Да что со мной такое?
– Я буду! И ты… Ты тоже пиши, хорошо? – я заглядываю ему в глаза, хоть и сержусь на себя за жалобный тон.
Я не знаю, сколько продлится война, как не ведаю, когда нам выпадет судьба встретиться, но верю сейчас в то, что Алексей не может погибнуть. Изо всех сил верю. Мы говорим сейчас о сущих пустяках, а мне… Мне обнять его хочется, как папу. И, кажется, в какой-то момент я замираю посреди фразы, вдруг подавшись навстречу ему. Миг – и мы в крепких объятиях друг друга. Как брат с сестрой, как друзья, как… Какая разница? Я обнимаю Алексея, а он меня, и мне от этого спокойнее делается. Я чувствую – так правильно. Правильно его обнимать и чувствовать его руки, его поддержку.
– Становись! – звучит команда, а сразу за ней: – По вагонам!
– Не плачь! – просит меня Алёша. – Я вернусь с победой, вот увидишь!
– Я буду ждать! Очень-очень! – мне кажется, какая-то сила разделяет нас сейчас, отнимая его у меня, и не хочу этого! Я ни за что не хочу расставаться с ним, неважно сейчас даже, почему.
Меня почему-то пускают к самому поезду, и Алексей до самого последнего мгновения касается меня своими пальцами. Наши руки соприкасаются, хотя он уже висит на подножке, а глаза неотрывно друг на друга глядят. Паровоз даёт гудок, затем второй, поезд медленно трогается с места, и я делаю шаг. Я не желаю разрывать наш контакт и иду за поездом, всё быстрее и быстрее, а затем уже и бегу за ним.
– Алёша! – кричу я. – Я буду ждать! На нашем месте ждать буду! – сама уже не понимая, что кричу, слышу лишь его голос, полузаглушенный шумом поезда.
Я не слышу, что мне кричит Алексей, останавливаясь в конце платформы. Я машу ему рукой, изо всех сил желая встретиться с ним вновь. Когда он стал мне настолько дорогим? Почему? Моя щека ещё хранит ощущение ткани его бушлата, я чувствую ещё прижавшийся ко мне ремень и плачу… Как будто папа снова уехал, я плачу, не в силах сдержаться.
– Ну что ты, сестрёнка, – слышу я ласковый голос того самого патрульного, который мне так помог. – Всё ладно будет с братишкой. Придёт он с победой домой, там и встретитесь.
– Я верю… – сквозь слёзы киваю я, но всё равно плачу.
– Полевую почту ему скоро сообщат, – произносит флотский командир, который начальник патруля. – Вот и напишет.
– Да, – киваю я, а потом, вытерев беретом слёзы, поднимаю на него взгляд: – Вы со мной, как с родной… А почему?
– А потому, сестрёнка, что ты жизни спасаешь, чем бы ни занималась, – отвечает мне совсем не командир, а другой краснофлотец. – Юная совсем, шестнадцати нет ещё, а работаешь там, где трудно.
И они уводят меня с собой. Я почему-то иду с ними, сама не знаю куда, и кажется мне при этом, что отъезд Алексея вызвал у меня больше эмоций, чем даже папин. Почему я так реагирую, отчего? Мне это совсем непонятно, зато, кажется, что-то понимает флотский командир.
– Это же очень плохо, когда совсем один, – объясняю я ему свой взгляд на ситуацию. – Только не знаю, почему я так…
– Вот так бывает, братцы, – вздыхает краснофлотец, идущий слева.
Только вот мне не говорят, что понимают, а я… Мне почти и всё равно, потому что в груди как-то пусто становится. Кажется, чего расстраиваться, ведь нас – огромная страна, и нет такой силы, что может нас сломить, но… Отчего-то очень грустным оказалось на фронт провожать Алёшу.
– А что такое «морская пехота»? – интересуюсь я у флотского командира. У него, кстати, только на рукаве знак, а в петлицах нет.
– Сейчас война идёт в основном на земле, – объясняет он мне, как маленькой, как мне кажется. – А моряки же хотят тоже побить фашиста? Ну вот им и дают такую возможность.
И вроде бы очень по-детски объяснил, а мне всё понятно стало. И плакать расхотелось, потому что весёлое получается объяснение. Поэтому я благодарю его и уже хочу домой возвращаться, но товарищ капитан-лейтенант просит кого-то «отвезти домой сестрёнку», и я через некоторое время уже на полуторке еду. Ласково они ко мне, как к родной своей…
Карточки
«Здравствуй, папка!
Как ты там бьёшь гадких фашистов? Как твоё здоровье? Совсем недавно уехал Алёша. Я даже и не знаю, когда он мне стал так дорог, даже, кажется, дороже друга. Ты знаешь, на вокзале моряки ко мне, как к родной отнеслись, даже странно было, а вот сегодня я начала понимать, почему…»
Собравший нас – медсестёр и санитарок – прямо с утра Константин Давыдович вздыхает. Он будто и не хочет поначалу говорить, хотя мы уже многое понимаем и сами, ведь формируется уже Народное ополчение, всё больше рассказов о пойманных диверсантах и шпионах, всё чаще проверяют документы на улице. У нас многие ушли на фронт, а вот в ополчение хирургию не пускают, даже предупреждают об ответственности за оставление боевого поста.
– Товарищи, – наконец произносит Константин Давыдович. – С сегодняшнего дня на базе больницы формируется эвакуационный госпиталь для детей. Это значит…
Я внимательно слушаю о том, как меняются наши, особенно мои, обязанности, понимая, что теперь мы с мамой домой будем попадать хорошо если до комендантского часа. Это, конечно, вопрос – как попадать домой, если нужно задержаться, но тут оказывается, что со мной ситуация и проще, и сложнее.
– Товарищ Суровкина, – обращается ко мне секретарь больничной комсомольской организации, – вам даётся ответственное поручение – самостоятельно работать медицинской сестрой, в кратчайшие сроки подняв уровень своей образованности.
– А меня допустят? – удивляюсь я, потому что это же основная проблема, сама-то я уже всё равно готова.
– Допустят, – кивает учитель, поблагодарив комсомольского секретаря.
Другие медицинские сёстры без зависти или злости смотрят, как будто понимают что-то, от меня до поры сокрытое. А я раздумываю о прочитанном в газете – Гитлер просто хочет, чтобы нас не было. Всех нас, жителей страны Советов, он хочет убить, так в статье написано. Но пока не может – раз за разом срываются его попытки, поэтому-то во время воздушной тревоги ничего и не происходит. Но по сигналу всё равно приходится бежать в убежище, а когда я на работе, то и помогать с малышами, потому что старших я просто не утащу.
Эвакуационный госпиталь – это означает только, что мы все военные. Но мы и так ими были, так что разницы никакой, а вот комсомольский секретарь выступил, чтобы у меня не было мысли, что я чем-то ненужным и неважным занимаюсь. Это наверняка учитель его попросил, спасибо ему.
А пока идёт совещание, я всё думаю об Алёше и нашем прощании. Как-то необычно оно прошло, и казалось мне в тот момент, что нет никого дороже у меня. Но он уехал, наваждение спало, а я всё жду письма. Очень мне важны письма, что от папы, что от Лёши. И от подруг московских тоже. Давеча Ленка письмо прислала, а там слова, что она в газете прочитала, грозные слова, я их в комитет комсомола наш больничный отнесла, чтобы все услышали.
Так вот, обо мне… Отделения у нас, выходит, сливаются, только и всего, хотя послеоперационные палаты остаются, потому что режим у них другой. Но медсестёр осталось мало, и санитарок не так много, потому палаты больше станут, впрочем, мне всё равно – я любимым делом занимаюсь. Но вновь ревёт сирена воздушной тревоги, и мне нужно бежать.
Я беру малышей – до трёх лет, их у нас немного, поэтому вполне успеваю с ними в бомбоубежище, устроенное тут же, в больнице. Сирена ревёт, но дети уже не пугаются – они привыкли к звуку, да и я, наверное, тоже привыкла уже. Бывает, по паре раз в день ревёт эта тревога, но не происходит совсем ничего, а это значит, что наши пилоты и зенитчики просто не пускают врага к городу.
– Валерия, у вас эвакуированные с поражением рук, – строго сообщает мне товарищ Иванова. – Осмотреть, оказать помощь, в сложных случаях – вызвать врача, всё ясно?
– Всё ясно, – киваю я, глядя на горстку испуганных детей лет пяти-семи. Взрослых рядом нет, это значит – без сопровождения, такое бывает.
Кажется, три недели всего прошло, а я уже ко многому привыкла. Из самого Ленинграда, по слухам, идёт эвакуация, но и в город есть приток беженцев. Чаще всего травмы у них механические, но вот тётя Лена давеча показывала мне мальчишку с огнестрельным переломом ноги. Раньше я такого и не видела никогда, даже в учебниках, а сейчас вот довелось.
– Лера, поесть не забудь! – мама заботится, проскакивая мимо меня.