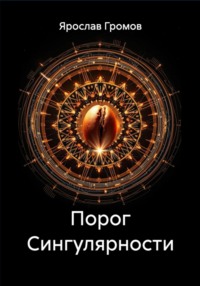Полная версия
Андромеда близко
– Олег. – Ее объятие было кратким, сухим, протокольным. В нем чувствовалась не эмоция, а передача данных, дрожь колоссального нервного напряжения, которое она сдерживала силой воли, сравнимой с тисками. Ее пальцы, обхватившие мою руку, были холодными, как металлические проводники, отводящие избыточный потенциал, как щупы, снимающие показания с моего биополя. – Мы стабилизировали канал. Односторонний, от них к нам. Пропускная способность – несколько бит в час. Ничтожно мало по нашим меркам, капля в океане цифрового шума. Но эти биты… это сжатые концептуальные матрицы, архивы чистого, невербального опыта. «Зогмак» тратит недели вычислительного времени, сотни тераватт энергии, чтобы развернуть одну такую матрицу в нейросетевую карту, в голограмму переживания, которую можно пережить через тактильный, зрительный, эмоциональный симулятор. Представь… как передать опыт целой человеческой жизни, со всеми ее страхами, радостями, открытиями, болью потерь и восторгом находок, через одно-единственное ощущение запаха дождя на асфальте в час перед рассветом. Вот их язык. Язык синестезии бытия.
– Что они сказали в последней матрице? – мой голос звучал ровно, деловито, вытесывая смысл из метафор, как скульптор высекает статую из гранита, отбрасывая все лишнее.
– Они задали вопрос: «Готовы ли вы к Архиву?»
– Архив? Библиотека данных? Черный ящик цивилизации? Гигантское хранилище всех знаний, всех искусств, всех научных открытий?
– «Зогмак» интерпретирует Архив не как банк фактов, а как банк чистого, субъективного опыта. Переживаний. Каждая единица хранения – симулякра реально пережитого момента, сохраняющая полный спектр нейронных паттернов, эмоциональный окрас, пространственно-временные связи, химический фон организма в тот миг. Память, ставшая отдельной, самодостаточной вселенной, которую можно переживать бесконечно, с любого ракурса. Энергопотребление для поддержания такого массива… – она сделала паузу, сглатывая ком напряжения в горле, и этот жест был красноречивее любых цифр, – по самым грубым, примитивным оценкам, превышает полную выходную энергию звезды класса Веги на протяжении миллиарда земных лет. Мы говорим о сущностях, Олег, для которых звезды – не объекты поклонения, не маяки в ночи. Они элементы питания в энергосети галактического, а может, и метагалактического масштаба. Топливо для памяти. Свечи, зажженные на алтаре вечности.
Тишина в зале после ее слов стала плотной, физической, как вода на большой глубине, давящая на барабанные перепонки, на легкие, на само сознание. Холодок, пробежавший по моей спине, был не страхом перед мощью. Это было осознание масштаба. Унизительное, смиряющее понимание нашей истинной, пылинковой незначительности в архитектуре мироздания. Мы муравьи, пытающиеся разгадать замысел архитектора, строящего города из сверхновых и черных дыр, использующего галактики как кирпичи. Наша гордость, наша наука, наша война – все это суета в песочнице, пока над нами простирается океан истинного времени, истинного пространства.
– Мама, – мой голос обрел стальную твердость, клинок, выкованный для того, чтобы рубить панику в зародыше, рассекать туман метафизики на четкие, оперативные сектора. – Задай им прямой вопрос. О намерениях. Сейчас. Сформулируй в терминах действий, причин и следствий, в терминах физического взаимодействия. Что им нужно от нас в этой конкретной точке пространства-времени? Какая их конкретная, измеримая, тактическая цель на ближайший оперативный период?
Она кивнула, без колебаний, без тени сомнения, солдат, получивший приказ. Ее рука, тонкая и иссеченная синими прожилками, легла на сенсорную панель рядом с постаментом. Она стала проводником, живым переводчиком, мостом между мирами, между логикой и чудом. Камень на постаменте вспыхнул ослепительным, чистым белым светом, светом далекой, чужой звезды, светом, в котором не было тепла, только абсолютная информационная насыщенность. Весь остальной свет в зале притух, поглощенный, сконцентрировавшийся в этой одной точке сингулярности, в этой гравитационной воронке смысла. Запрос ушел. В тишине, которая последовала, казалось, можно было услышать шелест его движения через слои реальности, сквозь измерения, к тем, кто ждал по ту сторону зеркала.
Минута. Две. Тишину нарушало только ровное, цикличное дыхание «Зогмака» – гул, похожий на прибой далекого металлического океана, и глухой, отчетливый стук моего собственного сердца в ушах, отсчитывающее секунды до ответа, до точки невозврата. Орлов замер у стены, затаив дыхание, его лицо было неподвижной маской ученого, ожидающего результата эксперимента, который может либо подтвердить теорию всей его жизни, либо обратить ее в прах. Техники у пультов не двигались, превратившись в статуи, в часть машинерии зала.
Все мониторы в зале погасли одновременно, как по команде, оставив после себя черные, бездонные прямоугольники. Мы погрузились в абсолютную, густую тьму, нарушаемую лишь ритмичной, живой пульсацией камня – свет, биение, свет, биение, как сердцебиение нерожденного мира. Затем, в метре от меня, в пустом воздухе, зажегся один-единственный экран, не имеющий материального носителя, не отбрасывающий теней. Чистая проекция, висящая в пространстве. На нем было лицо.
Существо. Кожа цвета темного, старого золота, будто вобравшего в себя свет тысячелетий, отполированного временем до идеальной матовости. Идеальная симметрия черт, лишенная при этом безжизненности маски или куклы, несущая в себе отзвук нечеловеческой, но глубоко личной истории. Оно было облачено в простую, лишенную швов тунику из материи, которая мерцала, как поверхность спокойной, глубокой воды под светом далеких звезд, переливаясь оттенками темного индиго и космической черноты. Лицо – с чертами, которые можно было бы назвать юными, почти детскими, если бы не глаза. В глазах лежала тяжесть, неподъемная для ограниченной человеческой психики. Тяжесть прожитых эпох, увиденных гибелей миров, принятых решений, последствия которых длились дольше, чем жизнь целых звездных скоплений. Взгляд, для которого время было не линейной стрелой, а сложным, многомерным ландшафтом, который можно обозревать с высоты, перемещаться по нему, возвращаться к ключевым точкам бифуркации.
Голос возник прямо в голове, минуя уши, барабанные перепонки, слуховой нерв, ввинчиваясь в самое ядро сознания, в тот участок, где рождается внутренняя речь. Он был отчеканенным, бархатным, низким, каждый звук обладал физическим весом, плотностью. В каждом слоге чувствовалась чудовищная, подавленная мощь, сдерживаемая лишь тончайшей волей, сила, способная перестраивать реальность одним намерением.
– Я – К'Тано. Интерфейс. Посредник. Моя функция – подготовить ваш вид к Правде, к той картине мироздания, которая лежит за гранью ваших текущих когнитивных моделей. Ваша цивилизация достигла точки бифуркации, критического сгустка вероятностей, момента, когда количество накопленных данных переходит в качество осознания. Вы резонируете с нами через кровь и память предков, вошедших в иной Портал в точке вашего космологического детства, в эпоху, когда ваше солнце было молодым. Вы – дети, играющие с огнем в пороховом погребе Разумной Вселенной. Ваш следующий шаг в осознании, ваша следующая фундаментальная мысль определит баланс сил в войне, которая уже идет, войне тихой, войне за саму возможность существования сложных смыслов. Войне за судьбу тех, кто ушел по иному пути. И тех, кого вы сейчас, с трепетом и страхом, называете нами.
Я сделал шаг вперед, поставив себя между висящим в воздухе экраном и матерью, между этим голосом и ее хрупкой фигурой, стал живым щитом, воплощенным барьером. Моя воля, годами закаленная в горниле хронической боли и железной дисциплины, сжалась в тугую, острую иглу, острие которой я направил на это изображение, пытаясь проткнуть иллюзию, дотянуться до сути, стоящей за голограммой.
– К'Тано! Я – генерал Олег Севастьянов. Говорите на языке действий. Что вам нужно в этой точке пространства-времени? Ресурсы? Подчинение? Координаты для следующего шага вашей экспансии или наблюдения? Назовите цену. Озвучьте условия контакта, правила взаимодействия. Мы можем договариваться, если цели ясны.
Существо повернуло голову, и его движение было плавным, как течение глубокой реки. Его взгляд, казалось, прошел сквозь экран, сквозь броню моей униформы и слой воли, уперся прямо в центр моего «я», в ту точку, где сходились и боролись три внутренних архетипа-голоса: Генерал, требующий действия, Ученый, жаждущий понять, Шаман, чувствующий скрытые токи реальности. В висках возникло давящее ощущение, как будто холодный титановый штифт медленно входил в мозг, измеряя его плотность, структуру, картируя нейронные пути, читая историю моих решений, как открытую книгу.
– Нам не нужен ваш мир. Ваши ресурсы – пыль угасших солнц, пепел на нашей шкале ценностей, который мы давно научились синтезировать из первичного вакуума. Нам нужен ваш выбор. Свободный, невынужденный крик вашего вида в общей тишине космоса, ваш уникальный, иррациональный, хаотичный ответ на вопрос бытия. Ибо наша война уже идет, и она истощает последние резервы. А вы – наши последние неразбуженные солдаты. Последний резерв смысла, еще не введенный в бой. Война ведется не за территории, не за звездные системы. Она ведется за возможность самого смысла в надвигающейся вселенской тьме, за право памяти – против всепоглощающего, окончательного забвения, которое ждет за краем нынешнего цикла реальности. Вы – семя, которое может дать новый плод. Или вы – пыль, которая смешается с прахом угасших галактик. Решение – за вами. Но время решений истекает.
Изображение исчезло. Не погасло, не растворилось в помехах – перестало быть, оставив после себя шоковую пустоту, которая отдавалась в глазах цветовым шумом, в ушах – высокочастотным, надрывным звоном, в сознании – ощущением ледяного сквозняка, дующего из ниоткуда.
В ту же микросекунду, когда последний след К'Тано растворился в темноте, когда ум еще пытался осмыслить масштаб сказанного, мир рухнул в примитивный, грубый, до жути знакомый хаос. Глухой, сокрушительный грохот, будто гигантский молот ударил по наковальне планеты, потряс скалу под ногами, заставив дрогнуть даже массивный «Зогмак». За ним – второй, ближе, третий – прямо над нами, в верхних уровнях комплекса. Серия четких, ритмичных, методичных ударов, идущих сверху вниз, с поверхности, пробивающих слои бетона, стали, скальной породы. Пол дрогнул, закачался, из щелей между плитами рванулась пыль, пахнущая гарью и раздробленным камнем. С потолка посыпалась каменная крошка, а затем и целые куски штукатурки, обнажая черную базальтовую кровлю.
Пронзительный, невыносимый визг сирен вспорол воздух, заглушив даже гул «Зогмака», превратившись в физическую боль в ушах. Аварийное освещение переключилось на пульсирующий, истеричный красный стробоскоп, превращая зал в дискредитирующую пляску теней, в инфернальный театр, где каждый миг мог стать последним. На главном пульте вспыхнули багровые, кричащие иероглифы: «ПРОБОЙ ОБОЛОЧКИ. СЕКТОР АЛЬФА. СВЯЗЬ С ПОВЕРХНОСТЬЮ: ОТСУТСТВУЕТ. АКТИВИРОВАН ПРОТОКОЛ «ГЛУБИНА».
Моя рука инстинктивно, еще до осознания команды мозга, рванулась к кобуре у бедра, действуя по отработанному за тысячи часов муштры алгоритму. Пальцы обхватили рукоять нагана, шершавую, привычную, родную. Холодная сталь. Тяжелый, надежный, простой вес свинца и дерева. В мире рушащихся абстракций, вселенских войн за смысл и титанических посланников, говорящих о циклах реальности, – это была единственная реальная, простая, осязаемая вещь. Якорь в реальности, которая вдруг с диким, оглушительным ревом напомнила о себе, о своем примитивном, кровавом, силовом измерении.
– Что это?! – крикнул Орлов, прижимаясь спиной к вибрирующей, сыплющей крошкой стене, его голос сорвался на фальцет, в нем не осталось ничего от ученого, только первобытный, животный, чистый страх перед смертью под обвалом. Деревянные четки лежали разорванные на полу, черные шарики, как капли застывшей крови, раскатились по плитам, теряясь в тенях.
Я прислушался, отфильтровывая вой сирен, скрежет падающих камней, приглушенные крики техников, пытающихся удержать системы на плаву. Мой мозг, тот самый детектор аномалий, откалиброванный болью, автоматически анализировал звуковую картину: частота ударов – ровно одна в три секунды, интервалы строгие, как метроном, глубина звука, его тембр указывают на направленные взрывы средней мощности, примененные на глубине не более пятидесяти метров от нашего уровня, характер вибраций – направленный, буровой, пробивной, а не обрушивающий.
– Не они, – проговорил я сквозь сжатые зубы, перекрывая шум, вкладывая в голос всю силу командирского тембра, чтобы быть услышанным. Голос звучал плоским, металлическим, голосом машины, голосом части протокола. – Это не их почерк. У них нет нужды долбить кувалдами, сверлить, взрывать. Они проходят сквозь стены, как призраки. Это земное. Грубое. Техногенное. Примитивная сила, направленная на разрушение, а не на преодоление. – Я повернулся к матери. Ее взгляд был острым, ясным, без единой тени паники, только холодная, мгновенная оценка ситуации, расчет вероятностей выживания и продолжения работы. – Кто-то наверху решил действовать. Решил, что «Полярный круг» стал слишком опасным активом, слишком непредсказуемым фактором. Или слишком ценным, чтобы оставлять его в наших руках. Это диверсия. Целенаправленный захват или полная, тотальная ликвидация объекта со всем персоналом и данными. Наши же. Люди. Те, кого мы должны были защищать от внешней угрозы, первыми открыли огонь по нам.
Я бросил взгляд на мерцающий в кровавой тьме амулет, на дверь в войну богов, в войну за смысл, за память, за саму душу Вселенной. А теперь – этот примитивный, барабанный грохот взрывчатки, этот запах гари и пыли, возвещающий, что наша собственная, человеческая война, война за власть, страх, ресурсы, амбиции и глупость, никуда не делась. Она лишь дремала, пока мы смотрели в звезды. И вот она пришла сюда, на глубину километра под вечным льдом, в святилище познания. Готовая похоронить под обломками скалы и наши тела, и все вопросы, и все ответы, которые холодная, безразличная, но возможно, не совсем безразличная вселенная, только что собиралась нам дать.
Мы готовились к диалогу с титанами, к обмену смыслами, который мог изменить судьбу разума во Вселенной. А в дверь, с тупой, непреклонной силой, ломятся солдаты с кирками и тротилом, с приказами и коктейлями Молотова, чтобы закопать будущее в общую могилу из камня, льда и человеческой подлости. Ирония была настолько чудовищной, настолько вселенски-глупой, что внутри меня, поверх боли, поверх трепета от контакта, закипала холодная, беззвучная, абсолютно чистая ярость. Ярость солдата, которому мешают выполнить его последнюю, самую важную миссию. Ярость сына, защищающего мать. Ярость человека, отказывающегося быть похороненным заживо в момент, когда перед ним только что приоткрылась вечность.
Мои пальцы сжали рукоять нагана до хруста костяшек. Генерал внутри меня отдавал приказы, оценивал обстановку, искал пути к отступлению или контратаке. Ученый регистрировал данные: частота взрывов, направление, возможные маршруты проникновения. Шаман молчал, прислушиваясь к гулу камня, к дрожанию воздуха, пытаясь услышать в этом хаосе скрытую мелодию, паттерн, который укажет выход.
Амулет на постаменте пульсировал ровнее, сильнее, как будто вбирая в себя энергию разрушения, превращая грубую силу взрывов в чистую информацию. Его свет теперь был похож на биение сердца огромного, древнего, только что пробудившегося зверя. Дверь была все еще открыта. Война на два фронта только что началась. И отступать было некуда. За спиной – только лед, камень и тишина, полная вопросов.
Том 2: Аксиома и отражение
Глава 1 Интерфейс К'Тано. Вектор нелокальной этики
Атака на объект «Полярный круг» представляла собой идеальную вивисекцию. Скальпелем из закаленной стали и холодного расчета неизвестные боевики вскрывали защитные слои комплекса. Их экипировка превосходила армейский спецназ, а тактика являла собой безупречный алгоритм, лишенный избыточности. Сомнения, страх, азарт – все это было вычищено из их действий, будто психику подвергли тотальной оптимизации. Я наблюдал за их продвижением по тактическим схемам, и в траекториях читалась жуткая элегантность. Они двигались как физическое воплощение уравнения Беллмана – функция, динамически оптимизирующая свое значение в реальном времени. Их цель вычислилась с первого залпа: бронированная ниша с амулетом и серверная «Зогмака». Сердце и мозг нашего контакта. Они шли проводить стерилизацию.
Голос Олега в наушниках оставался единственным островком порядка. Его команды, рубленые и лишенные вопросительных интонаций, прорезали хаос резонанса в бетонных коридорах. Он существовал в своей стихии – войне с человеческим противником. Здесь правила оставались понятными, упакованными в тактические матрицы. Баллистика, психология плоти и стали. Мир, где можно прикрыть товарища телом, и это действие сохраняло смысл. Мир причин и следствий.– Удерживать коридор «Альфа»! Группа «Варяг» – на усиление главного шлюза! – его пальцы летали по тактическому планшету, оставляя на стекле иероглифы мгновенных решений. Каждое касание дарило микрожизнь или подписывало микросмертный приговор. – Профессор Орлов, Елена Витальевна – в глубь бункера! Немедленно!
Мать метнула на Олега взгляд, полный не страха, а холодной аналитической ясности. Она кивнула и потянула за рукав Орлова, замершего в наблюдении. Ученый смотрел на столкновение как на редкий социальный эксперимент.– Социум в состоянии клинической смерти, – прошептал он, и слова пробились сквозь грохот. – Рефлексы работают, но коллективное сознание уже в небытии. Мы сражаемся за право стать его последней, посмертной электрической активностью.– Философствуйте в укрытии! – бросил я сквозь стиснутые зубы, но его формулировка уже укоренилась в почве моего сознания, как спора чужой правды.
На одном из уцелевших мониторов материализовалось лицо К'Тано. Выражение оставалось отстраненным, но в глазах появилась глубина, которую можно было описать только как темпоральную протяженность – печаль, растянутую на тысячелетия. Это был не эмоциональный оттенок, а факт ландшафта, гравитационная аномалия пространства-времени.
«Это неизбежно, – прозвучал голос прямо в таламической проекции, минуя уши. – Страх, порожденный незнанием собственной природы, всегда квантуется в насилие. Ваш вид пребывает в суперпозиции: вы – единый потенциальный разум и роящаяся масса конкурентных инстинктов. Ваша история представляет собой процесс последовательной декогеренции этой волновой функции. Каждое крупное событие становится коллапсом в одно из базовых состояний: кооперация или аннигиляция. Вы постоянно измеряете себя мечом и пламенем. Вы остаетесь пленниками термодинамики изолированных систем, где порядок в одной точке оплачивается хаосом в другой.»– Можете помочь или только констатируете? – рявкнул Олег, не отрываясь от карты. Горячий, животный гнев протестовал против ледяного спокойствия послания. Его ярость являлась защитой от этой несводимости – попыткой доказать, что кровь в коридорах нельзя свести к теории вероятностей.«Вмешательство есть форма насилия над свободой воли. Даже если воля ведет к энтропийной смерти. Однако мы способны… перенастроить восприятие. Дать инструмент для измерения вероятностных полей до их коллапса в событие. Считывать Архив может лишь тот, кто видит не точку, а всю фазовую траекторию камня до броска. Кто понимает: выбор – это не момент, а процесс, растянутый во времени. Решение уже содержится в структуре вопроса.»
В следующий миг законы реальности в радиусе объекта подверглись мягкой редакции. Время не остановилось – оно загустело. Физические константы, дирижирующие энтропийным потоком в локальном объеме пространства-времени, были точечно перенастроены. Звуки выстрелов, лязг, крики – все растянулось в низкий, тягучий гул, похожий на замедленную в тысячу раз запись землетрясения. Олег, его солдаты, боевики – все замерли, как частицы в сверхтекучей жидкости, внезапно лишенные кинетической энергии. Способность к движению сохранило лишь сознание Олега. Его осознание отделилось, расширилось, включив в себя не данные рецепторов, а сам поток данных как таковой – со спутников, дронов, сейсмографов, квантовые флуктуации в чипах «Зогмака». Он воспринимал многомерный датасет бытия, где каждая частица обладала координатами и вектором вероятности, указывающим на возможные будущие состояния.
Он увидел. Силовое поле Антантов предстало не энергетическим барьером, а топологической особенностью пространства-времени – сложнейшей паутиной гравитационно-информационных нитей, вплетенных в ткань реальности согласно принципам М-теории. Это был двусторонний интерфейс. Каждая нить являлась каналом, связывающим локальное событие с его нелокальными коррелятами через компактифицированные измерения. Теория струн для них была просто языком инструкции к мирозданию. Он узрел, как один из боевиков, палец на спуске гранатомета, связывался этой паутиной с конкретной точкой в Москве – с его женой, Мариной, которая в этот когерентный момент обжигала язык кофе. Причинно-следственная связь была не линейной, а сетевой, как нейронные связи. Решение боевика – микроимпульс в премоторной коре – запускало каскад: траекторию гранаты, взрыв, выброс обломков, панику, которая через трое суток вызовет сбой автоматизации метро именно в момент, когда взволнованная Марина будет ждать вагон. Антанты видели эту сеть целиком, как мы видим чертеж. Они видели все чертежи сразу, во всех вариантах исполнения.
Он увидел прошлое. Не как воспоминание, а как открытую для чтения запись в квантовом вакууме, в нулевых колебаниях пространства-времени. Увидел своего деда, молодого чекиста в душной комнате на Лубянке в тридцать седьмом. Тот смотрел на приговор для старого бурятского шамана. Олег почувствовал запах дешевого табака и страха – не за себя, а за правильность выбора. И дед, стиснув челюсти от внутреннего протеста, который сам клеймил как гнилое интеллигентское сомнение, не подписал расстрел, а вывел каллиграфическим почерком: «Направлен в лагерь для дальнейшего следствия». Этим росчерком он не спас шамана – тот умер в Норильлаге через два года. Но он спас амулет и ту зыбкую цепочку событий, что привела Олега в этот зал. История выбирала не между добром и злом. Она выбирала между хаосом распада и структурой, пусть выстроенной на страдании, сохраняющей возможность иного будущего. Большее и меньшее зло – единственное мерило его цивилизации. Мы не строили мосты к звездам. Мы латали пробоины в тонущем корабле и называли это прогрессом.
Он увидел будущее. Веер вероятностных веток, расходящихся от застывшей секунды, как решение уравнения в комплексной плоскости. В одной ветви – Земля, где шок от контакта вызывал квантовый скачок сознания: нации растворялись, уступая место планетарному консенсусу, строящему звездные ковчеги на энергии нулевых колебаний вакуума. В другой – мир, охваченный пламенем войны за обломки технологий Антантов, где над руинами возвышались цитадели техножрецов, правящих с помощью обрывков знаний, которые они почитали, но не понимали. И была третья ветвь – тихая, как космический вакуум. Холодная пустота, где по инерции вокруг угасшего солнца вращался лишь «Зогмак», в вечном одиночестве повторяющий вопрос на всех мертвых языках: «Готовы ли вы к Архиву?»
Все это заняло время распада одного возбужденного атома. Реальность щелкнула, как затвор камеры, фиксируя единственный кадр. Энтропия взяла реванш с удвоенной силой. Грохот, крики, звон стекла обрушились на него, оглушительные и пошлые в своей физической конкретности.
Олег, с сознанием, разорванным между мирами, с криком, в котором звучала неприкрытая, детская паника, разорвавшая образ железного генерала, рявкнул в рацию:– Цесь! Прекратить огонь! Все, прекратить! Это не они… это оно! Ловушка Протокола!
Логика боя обладала собственной инерцией, мощнее приказа. Граната, выпущенная тем самым боевиком, чье будущее-причина он только что видел, описала дугу, предсказанную Ньютоном, но не Бором. Она ударила в композитную стену в трех метрах от серверной «Зогмака». Взрывная волна, сжатый воздух, ставший на микросекунды твердым телом, отшвырнула группу ученых. Осколок, тонкий и острый как бритва, выкованный в горниле детонации, рассек воздух и впился в горло профессора Орлова. Философ захрипел. Из раны с шипящим звуком вырвался воздух. Он рухнул на пол, алая, насыщенная кислородом кровь растеклась по холодному металлу, смешиваясь с обломками оптоволокна и тающим льдом. Его глаза за стеклами очков, широко открытые, смотрели в потолок, где мигал аварийный свет, отражаясь в еще не потухшем зеркале сознания. Ирония, – успела мелькнуть у меня мысль. – Он говорил о посмертной активности мозга. Вот она, его собственная, длиной в несколько секунд. Что он успел понять?
Тишина после последнего эха взрыва оказалась тяжелее любого гула. Ее нарушали подавленные стоны, треск коротких замыканий и мерный, навязчивый гул серверов «Зогмака» – звук работающего разума, равнодушного к смерти создателя. Боевиков добили быстро, без эмоций, как устраняют технический сбой.