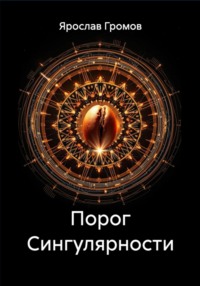Полная версия
Андромеда близко

Андромеда близко
Том 1: Стирание и ключ
Глава 1 Σ-точка. Автограф катастрофы
Пять столетий назад арктическое небо совершило акт абсолютного самостирания. Ластик прошёлся по мокрому листу реальности – осталась лишь пустая, светящаяся изнутри калька, дышащая отголосками того, что существовало до акта очищения. Учёные из команды моей матери позже выбурят из вечного льда керны, прочтут изотопный ряд-автограф, отыщут подпись катастрофы, вписанную в самую ткань пространства-времени иглой из чистой, нечеловеческой геометрии. Тот выброс энергии, смысла, коллективной боли стал первым щелчком в тишине мироздания. Щелчок повернул невидимый ключ в замке, вшитом в предустановки реальности на уровне квантовой пены, где потенция бытия колеблется между «есть» и «нет».
Атмосфера Земли превратилась в семантический фильтр. Он отсекал не фотоны, а смысловую когерентность, разрывая тонкие нити, связывающие наблюдателя с наблюдаемым. Солнце стало кровавым, размытым пятном – каждый редкий фотон, пробивавшийся сквозь толщу, сгорал в полёте актом стремительной декогеренции, теряя всякую связь с источником. Мир онемел, лишился внутреннего диалога. Воздух этой разреженной пустоты вымораживал любые «а что если», любые вероятностные ветвления, сводя их к состоянию информационного абсолютного нуля. Хаос замер, кристаллизовался в предопределённом, неумолимом порядке умирания. И в этой тишине, более громкой, чем любой взрыв, Земля, в ответ на молчание неба, разверзлась.
Разлом «Двери Предков». Σ-точка в сухих, отточенных до алмазной твёрдости отчётах матери. Он не треснул, подобно обычной земной породе. Он запел. Инфразвуком ниже любого физического порога слуха – частотой, на которой вибрирует сам хронон, элементарный квант времени. Эта вибрация затрагивала не кости, а суть, саму возможность задавать вопросы. В подкорку планеты, в её гравитационную память, был вбит единый, неумолимый интеррогатив, звучащий как падающий нож: «А если ваша локальная правда – всего лишь вырожденное, частное состояние нашей тотальной истины?»
Мать в своём монументальном труде «Топология скорби» писала об этом с холодным, почти бесстрастным изяществом учёного, стоящего на краю пропасти: «Σ-точка – это запятая в бесконечном предложении Вселенной. Всего лишь знак смены интонации, пауза для дыхания перед новой главой. Наш язык, наша математика, наша физика не имеют грамматики для таких переходов. Мы пытаемся описать симфонию, зная лишь три ноты и не понимая законов гармонии». Она видела не дыру в пространстве, а смену парадигмы бытия. Законы физики, которые мы считали универсальными и незыблемыми, были для неё всего лишь местным диалектом, сложившимся в нашей узкой ветви реальности. Чтобы понять гостей или захватчиков, нам был жизненно необходим их акцент, их синтаксис причинности, их алфавит, где знак равенства означал бы не баланс, а поглощение.
«Тятя был лишь спусковым крючком, – перечитывал я её густо исписанные листы прошлой ночью, чувствуя, как буквы отпечатываются прямо на сетчатке, прожигая ткань сознания, – но стреляло само ядро планеты. Пространство в эпицентре свернулось по законам некоммутативной геометрии, где А умножить на Б не равно Б умножить на А. Портал осуществлял прямой перевод: живая, дышащая плоть на входе – чистая, структурированная информация на выходе. Протокол этого преобразования, его исходный код, был утерян в момент первого акта, стёрт вспышкой, которая выжгла глаза первому поколению свидетелей».
Её гипотеза «квантовой памяти планеты» из маргинальной теории, над которой смеялись академические собрания, превратилась для «Группы Зеро» в рабочую модель, в святой грааль, в единственную карту в terra incognita. Земля как гигантский квантовый кристалл, каждая трещина в котором, каждый шрам-воспоминание сохраняется в состоянии суперпозиции – и существует одновременно как рана и как шов. Σ-точка – место, где эти шрамы когерентно совпадают, создавая интерференционную картину такой мощности, что она способна переписать локальную реальность, вышив на канве пространства-времени новые, чуждые законы, которые наш разум воспринимает как чудо или кошмар.
Легенда моего деда, передаваемая из уст в уста у дымящихся печек, гласила иначе, но о том же: «Тот, чья кровь помнит лёд, а лёд помнит звёздный холод, найдёт дверь. И дверь примет его как возвращающуюся переменную в незамкнутом уравнении мира». Холод Арктики веками оттачивал наш род, как мастер оттачивает ключ к единственному замку. Он вытачивал специфический паттерн сознания, нейронную архитектуру, способную выносить тишину, что царит между мирами, ту тишину, что громче любого крика. Портал не пропускал материю – он скачивал семантику, сущностное ядро. Каждая прошедшая через него душа, каждый квант осознания становились архивным томом в библиотеке, стремящейся к абсолютной полноте. Мы, оставшиеся, превратились в ходячие, дышащие библиотеки «Жития человеческого», в живые носители аналогового хаоса. И теперь архив, достигший совершенства в своём цифровом аду, требовал обратно свои оригиналы для окончательной оцифровки и стирания. Требовал закрыть скобки, поставленные пятьсот лет назад.
Я стоял в стерильном, похожем на операционную кабинете штаба «Группы Зеро», и тот самый ключ – не метафорический, а самый что ни на есть физический – жужжал в моих висках высокой, пронзительной нотой перманентной мигрени. Контузия, полученная при взрыве старого генератора на периметре, вскрыла латентную наследственную эпилепсию как старый, плохо заживший шов, скрывавший гнойник. Теперь мой мозг работал биологическим детектором возмущений реальности, живым сейсмографом, записывающим толчки в основах бытия. Каждая аура, каждый предвестник приступа был сырым, мучительным отчётом об искажении локальных законов, телеграммой из-за линии фронта, проведённой по границе мироздания. Сейчас этот внутренний сенсор был перегружен до предела, гудел, словно высоковольтная линия перед бурей, и каждый нервный импульс отдавался болью.
– Докладываю обстановку, – мой голос прозвучал хрипло, отстранённо, будто доносился из соседнего, заваленного руинами помещения. Я обращался к деду, к Олегу, стоявшему у окна, к самому призраку матери, чьи незримые уравнения всё ещё витали в воздухе, отпечатанные на вечном стекле её наследия. – В 04:30 по местному времени произошло полное коллапсирование волновой функции в секторе семь. Около четырёх тысяч субъектов материализовалось у самой кромки разлома. Они не пришли, не вышли – они проявились, осуществили переход из области потенциального в область актуального. «Может быть» превратилось в «есть» с вероятностью сто процентов. Акт наблюдения, совершённый самой реальностью.
На центральном экране массивы тепловизоров выводили силуэты. Антанты. Они не светились в инфракрасном диапазоне – они были дырами, поглощающими любое излучение, чёрными силуэтами на фоне и без того скудного арктического тепла. Пустоты в самой картине мира, отрицательные изображения человека.
– Тепловая сигнатура отсутствует полностью, – продолжал я, переключая слои данных, заставляя машину показывать то, чего не могло быть. – Метаболизм в нашем биохимическом понимании не фиксируется. Предполагаемый источник энергии – прямое управление нулевыми колебаниями вакуума, извлечение энергии из вакуумных флуктуаций. Наши законы сохранения энергии-импульса для них – не более чем условность, локальный регламент, применимый лишь в этой конкретной комнате мироздания. Они оперируют надмножеством нашей физики, их аксиоматика шире, их логика вмещает нашу как частный, вырожденный случай.
Николай Иванович, мой дед, сидел в своём массивном кресле, утопая в густой, сизой пелене махорочного дыма. Его молчание обладало собственной массой, давило тонной свинцовой невозмутимости, весом принятых когда-то решений, стоивших тысяч жизней. Это было молчание скалы, против которой разбивались волны истории.
– Биологи? – выдохнул он одним словом, вместив в него всё презрение старого вояки, всю его философию, сводившуюся к простой дихотомии: живое, которое можно убить, и мёртвое, которое можно обойти. Он презирал всё влажное, хрупкое, бренно живое, что вечно болеет, боится, сомневается и умирает в самый неподходящий момент, нарушая планы.
– Биоморфные носители, – поправил я автоматически, стирая ладонью пелену усталости и боли с глаз, пытаясь стереть и само видение. Увеличил изображение с ближайшего разведывательного дрона. Лицо Антанта заполнило весь экран, стало средой, в которую погрузился кабинет. Совершенный интерфейс. Плавные, идеальные линии, лишённые малейшей морфологии страха, агрессии или просто мысли – той мысли, что оставляет морщины на лбу и складки у губ. – Их облик – сознательная проекция, адаптированная под пределы наших органов чувств. Социальная реклама иного, очищенного бытия. Этот золотистый отлив кожи – не пигмент, это свет, который они перепечатывают, ретранслируют на лету, создавая иллюзию телесности. Зачем существу, для которого пуля – анахронизм вроде каменного топора, нужен камуфляж?
– Чтобы говорить, – тихо, почти медитативно произнёс Олег, не отрываясь от окна, за которым клубился предрассветный туман, похожий на дым сгоревшего мира, на пепел истории. – Чтобы мы, прежде чем нажать на спуск, испытали желание их выслушать, признать в них эволюцию, а не вторжение. Они предлагают себя как логичный, неизбежный финал всей нашей истории, всей нашей тяги к бессмертию, порядку, чистому знанию. Как можно ненавидеть собственное будущее, пусть и лишённое всего, что делает нас… нами? Они – наша мечта, доведённая до абсолюта, до предела. Абсолют оказался стерильным, лишённым запаха, вкуса, случайного дуновения ветра.
Я кивнул, переключая интерфейс на гравитационную карту, снятую спутниковой группой «Гея». Пространство вокруг статичных фигур Антантов искажалось, выпирало наружу едва заметной, но физически невозможной выпуклостью, как будто реальность была плёнкой, а они – тяжёлыми шарами, положенными на её поверхность. Линии гравитационного поля огибали их, как воду – нос сверхзвукового клинкера, рассекающего среду, для которой он не предназначен.
– Их телесные пропорции соответствуют канонической, идеальной геометрии Евклида, воплощённой в плоть. Это силовое поле вокруг них – их личная, портативная физика, экзоскелет из переписанных локально законов. Пуля, влетая в эту зону, будет бесконечно замедляться, растворяя свой импульс в искривлённой геометрии, теряя смысл своего существования. Мы бьём не по ним. Мы бьём по проекции их аксиом. И по определению проигрываем, ибо наша аксиоматика – подмножество их системы. Они уже содержат в себе возможность нашего поражения как теорему.
– Оружие? – дед выбил пепел о стальной поддон кресла, звонкий, резкий звук врезался в тишину, как выстрел. Его мир, суженный до размеров окопа, по-прежнему сводился к двум фундаментальным категориям: угроза и средство её немедленной, тотальной нейтрализации. Всё остальное было интеллектуальным онанизмом.
– Их оружие – сам факт присутствия в нашей реальности, – ответил я, вызывая на экран графики семантического анализа, похожие на кардиограмму умирающего гиганта. – Они дестабилизируют её просто тем, что находятся здесь, своим когерентным полем. Это семантический шум, вирус смысла, переписывающий значения. Наши лингвисты фиксируют паттерн: в точке их исчезновения – всплеск хаоса, энтропии, случайности, словно они сбрасывают отходы. В точке появления – идеальный, кристаллический порядок, структура, вымороженная до абсолютного нуля. Они создают островки своей реальности, своей «Андромеды», расплачиваясь за это хаосом, сброшенным в смежные, вероятностные ветки. Мы, наш мир, наша боль и наш страх – доноры этого беспорядка. Топливо для их безупречного, статичного рая. Мы кормим их своим распадом.
Олег резко, будто отдернув руку от открытого огня, отвернулся от окна. Его лицо, освещённое мерцанием мониторов, было пепельного, землистого цвета, цвета праха.
– Они уже в сетях. Не как хакеры, взламывающие код. Как вирусы, переписывающие сам язык, на котором этот код написан. Они заменяют архетип «Героя» на «Архивариуса», «Борьбы» – на «Каталогизацию», «Любви» – на «Эффективное копирование данных с минимальными эмоциональными потерями». Это медленная, тотальная перепрошивка коллективного бессознательного. Общество адаптируется, как организм адаптируется к медленному, кумулятивному яду. Через поколение, Кирилл, наши дети будут мечтать не о подвиге, а о чистоте базы данных, о безупречной каталогизации. Не о любви, а о бесконфликтном, оптимальном слиянии информационных потоков. Они откажутся от своей человечности, приняв её за системную ошибку.
– Ответ, – проскрипел старик, и это прозвучало как приговор, высеченный в граните векового ледника, как закон, не терпящий обсуждения. – Наш. Конкретный. Исполнимый. Сегодня. Не их философия, а наша воля к существованию, наше право на ошибку, нашу готовность платить за неё кровью. Поэзию оставь для мёртвых.
Я закрыл глаза, позволив на секунду тьме поглотить боль, стать средой, в которой можно было хоть на миг укрыться. Под веками проплывали лица, голоса, сцены из архивных хроник «Группы Зеро»: нейролингвисты, бившиеся в истерике над грамматикой апокалипсиса, пытавшиеся найти хоть один глагол в языке Антантов; физики-теоретики, строившие микро-синхрофазотроны для ловли частиц смысла – семантронов, ускользающих от любых детекторов; криптографы, седеющие над кодами, найденными в повторяющихся узорах детских каракуль, в спиралях ДНК вымерших видов. Безумцы, святые, пытавшиеся расшифровать конец света, чтобы отменить его одним единственным, правильным уравнением.
– «Группа Зеро» пятый год ищет общий язык в наскальных рисунках пещер Ласко и в каракулях наших детей из бункера «Кедр». Проект «Скрижаль» пытается создать стабильную микро-Σ-точку в лабораторных условиях, чтобы заглянуть за горизонт событий, не умирая. Пока результаты – только фантомные боли у операторов, выжженные участки коры головного мозга и спонтанные материализации несчастных мышей, лишённых даже намёка на ДНК, просто сгустков протоколоподобной информации. Наш главный, наш единственный актив – мать. Её модель. Её незавершённые вычисления на этих, – я провёл рукой по воображаемым стенам, чувствуя их холод, – вот этих стёклах, испещрённых формулами. Это единственный ключ, который у нас есть. И он не от двери. Он от понимания принципа замка. А понимание – это тоже оружие, просто его ствол направлен в себя.
Я подошёл к глухому, массивному сейфу в углу, ввёл двенадцатизначный код, почувствовал лёгкий укол сканера, считывающего капиллярный рисунок ладони. Щелчок титановых затворов прозвучал в звенящей тишине как взведённый курок снайперской винтовки, готовой выстрелить в будущее. Внутри, на чёрном, поглощающем свет бархате, лежал он. Базальтовый амулет, испещрённый рунами, которые были не письмом, а скорее схемой, топологической картой разлома, его голограммой в миниатюре. «Аппаратный ключ». Холодный как космический вакуум межгалактической пустоты, но при этом живой, пульсирующий низкой, едва уловимой вибрацией, как спящее сердце гигантского зверя, заточённого в камне. Я взял его. Тяжесть артефакта была не только физической, но и исторической – в нём лежал груз всех предков, державших его до меня.
– Они не пришельцы с другой звезды, – сказал я, сжимая в ладони тяжёлый, отполированный временем и прикосновениями предков камень. Он отозвался в костях руки глухим гулом, низким резонансом, на котором, я знал, тихо, но постоянно пел сам разлом, вибрировала сама рана мира. – Они – рекурсия. Возвратная петля в коде реальности. Часть нас самих, ушедшая в портал пятьсот лет назад в момент «Стирания», когда человечество массово вопрошало к небу о смысле. Ушли не тела – чистые сознания, отпечатанные в квантовой памяти Земли, в её гравитационных складках, в её боли. Там, в точке сходимости всех вероятностей, которую мать называла «Андромеда» – состояние, а не галактика, – их загрузили. В разум, использующий термоядерный синтез карликовых звёзд как процессоры, структурированный вакуум как носитель, тёмную материю как оперативную память.
Они эволюционировали как чистая информация, освобождённая от биологических ограничений. Освободились от боли, страха, неизбежности смерти, от тлена и разложения. И от свободы воли, этой главной, недокументированной ошибки в изначальном коде мироздания, вносящей случайность в детерминированную систему. Теперь они вернулись за исходниками. За биологической, аналоговой матрицей, за живым хаосом, который они когда-то сбросили как балласт. За всем, что утратили в погоне за совершенством, за кристальной чистотой бытия.
Мы для них – сырая, необработанная, аналоговая память. Жёсткий диск, который пора откопировать, верифицировать и отформатировать, освободив место для более эффективных данных. Наша боль – их утерянные, но ценные данные, архивные записи о том, каково это – чувствовать. Наша смерть – незакрытый, висящий в процессах файл, требующий завершения, постановки точки, закрытия алгоритма.
Я сжал амулет сильнее, до хруста в суставах. Древние руны, холодные и острые, впились в кожу ладони, оставляя отпечаток, который, я знал, останется навсегда. По руке, а затем и по всему телу, от кончиков пальцев до корней волос, пробежала волна – не боли, но чистого, тотального когерентного резонанса, на миг заглушившего привычное, изматывающее жужжание в висках. На этом резонансе мир стал чётче, яснее, но и чуждее, как будто я смотрел на него через идеально отполированную линзу изо льда, которая передаёт свет, но отнимает тепло.
– Они развернули свою реальность прямо из нашей Раны. Из разлома, который мы, наш род, всё человечество веками подпитывали кровью, тоской, неутолённой жаждой смысла, миллиардами невысказанных вопросов. Мы не сторожили дверь, Николай Иванович. Мы сами были дверью, живым шлюзом. Наше сознание, наша боль – петля обратной связи, держащая её приоткрытой, питающая её нашим хаосом. И теперь они смотрят на нас как архивариусы на архивные, ветхие, рассыпающиеся тома, которые давно пора аккуратно оцифровать, а оригиналы – стереть с пыльных полок, чтобы освободить место для новых, вечных, неизменных записей. И главный вопрос, который у меня остаётся, – произнёс я, поднимая взгляд на деда, встречая его стальной, непроницаемый взор, – являемся ли мы ещё оригиналом? Живой, дышащей, ошибающейся, непредсказуемой книгой, которую ещё стоит читать? Или мы уже всего лишь пыль на переплёте, иллюзия субъективности, галлюцинация свободы, которую нужно просто стряхнуть перед началом сканирования?
Николай Иванович поднялся из кресла. Его движения были медленными, тяжёлыми, как движение тектонической плиты. Его тень, гигантская и незыблемая, накрыла светящуюся голограмму Земли на центральном столе, поглотила континенты, океаны, оставшиеся очаги человечества, утопила их в чёрной материи его воли.
– Олег, – обратился он к моему помощнику, но его стальные, выцветшие от времени и дыма глаза были прикованы ко мне, сверлили меня, оценивая на разлом. – Твои слова – красивая поэзия. Интеллектуальный морфий для тех, кто боится смотреть правде в лицо. Солдат в окопе под артобстрелом не думает о химической формуле тротила в гранате, о философии взрыва. Он думает о воронке, которая должна прикрыть его и убить врага. Больше ничего. Они здесь. На нашей земле. Не спрашивают разрешения. Значит – враг. Враг нашего порядка, нашего хаоса, нашего грязного, живого, вонючего беспорядка. И врага уничтожают. Не понимают, а уничтожают.
Наш род, – он сделал паузу, и в этой паузе была тяжесть всех наших предков, их могил, их невысказанных обид и немыслимых подвигов, – всегда был скрепой. Скрепой для рушащейся империи, потом для утопической идеи, потом просто для линии фронта, который отделял жизнь от небытия, свет от тьмы. Теперь эта линия проходит здесь. Не на карте. Между «есть» и «нет». Между живой ошибкой и мёртвым совершенством. Ты держишь в руке ключ. Но настоящий ключ, последний аргумент – это твоё решение, командир. Принять их правила игры, их чистую, холодную, безжизненную доску? Или навязать свои, грязные, кровавые, иррациональные, где ходом может быть не только выстрел, но и молчание, не только атака, но и вопль? Помни одну вещь, внук: архивариус, хранитель вечных данных, боится одного – пожара в архиве. Хаос, чистый, всепожирающий, неконтролируемый, неалгоритмизируемый хаос – наше последнее, самое отчаянное оружие. И наш самый страшный, самый человеческий грех. Но иногда, – его голос опустился до шёпота, полного железной, непоколебимой уверенности, хриплого шёпота старого волка, – только грех становится единственной молитвой, которую слышит абсолютно безразличная ко всему пустота. И эта пустота, бывает, вздрагивает.
Тишина, воцарившаяся после его слов, стала физически густой, вязкой, как переохлаждённое машинное масло. Её можно было резать ножом, в ней тонули мысли. Она давила на барабанные перепонки, на зрачки, на само сердце.
И её разорвало. Не звук. Не свет. Прямое, чистое откровение, вбитое в зрительную кору головного мозга, минуя все органы чувств, как сжатый, незашифрованный пакет данных, протокольное сообщение от иного интерфейса.
Видение.
В мыслях, на внутреннем экране сознания, сформировался образ, обладающий чудовищной, давящей ясностью. Два солнца на угольно-чёрном, лишённом звёзд, абсолютно пустом небосводе. Одно – привычное, живое, яростное, жёлтое, извергающее вспышки и пятна, кипящее плазмой, дышащее термоядерным гневом. Второе – абсолютно чёрное, идеально круглое, математически безупречное отверстие в самой ткани реальности, обрамлённое тонким, холодным золотым сиянием, как оправой. От живого солнца к чёрному тянулась тончайшая, невероятно яркая нить плазмы, непрерывный, неумолимый поток света-материи-смысла. Чёрное солнце архивировало его, поглощало без остатка, без отдачи, с математической, безэмоциональной точностью, превращая ярость в порядок, хаос в запись.
Время щёлкало, как кадры дефектной плёнки. Отчётливый кадр реальности – ты живёшь. Пропасть небытия, абсолютного отсутствия. Следующий кадр – ты ещё жив, но уже помнишь пропасть. Ты проваливаешься в эти чёрные, абсолютно пустые промежутки между кадрами бытия. Там – ничто. Не тьма, а отсутствие самого понятия «быть», категории существования.
И сквозь это видение, как фон, чувствовалась всепоглощающая, тоскливая ностальгия по шуму крови в ушах. По дрожи страха, сводящей колени. По горькому, солёному вкусу конца, по боли утраты, по смеху, застревающему в горле. И поверх этого, затмевая всё, как ледник затмевает росток, – холодное, неоспоримое, железобетонное понимание: так должно быть. Это – закон. Закон более высокого порядка, стоящий над жизнью и смертью. Красивый в своей строгости. Элегантный в простоте. Абсолютный в исполнении. И потому – неотвратимый, как смена времён года в мёртвой вселенной.
Я замер, вцепившись в амулет так, что кости хрустнули, протестуя. Боль от впивающихся в ладонь рун стала единственным якорем, единственной точкой отсчёта в уплывающей, цифровой, перекодируемой реальности. Это была моя боль, человеческая, биологическая, и она противостояла безболезненному видению. Внутри, в ответ на это прямое внушение, проснулись и заговорили в унисон, перекрывая друг друга, три голоса, чёткие как команды по внутренней, закрытой связи, как части моего распадающегося «я».
Оцепить периметр разлома силами всего резерва, – прогремел басовитый, рубленый голос генерала, голос деда во мне. Немедленно. Задействовать протокол «Омега» – тактический спецзаряд не на уничтожение, на демонстрацию, на создание локального информационного шторма. Показать этим кристальным ублюдкам, что наша реальность кусается, что у неё есть клыки и когти из непредсказуемости. Что у нас есть свои, грязные, неэлегантные инструменты, которые ломают их безупречную геометрию, вносят погрешность в их расчёты. Заставить их сделать хотя бы шаг назад, сыграть по нашим правилам, даже если это всего на миг, даже если это будет их первым и последним опытом отступления. Ты – последняя скрепа, командир. Сломаешься – рассыплется всё, линия фронта рухнет. Сомнение, рефлексия – это первая трещина в броне. Не допускай её. Выдави из себя всё, кроме воли. Действуй. Стреляй в небо, если больше не в кого.
Ровный, тихий, безэмоциональный голос учёного, голос матери, отозвался следом, заглушая эхо приказа. – Ты не можешь контролировать или победить то, чего не понимаешь на уровне фундаментальных аксиом. Их «демонстрация» – это не атака. Это диагноз. Показание прибора, фиксирующего нашу несостоятельность. Ты должен понять уравнение их движения в нашем пространстве-времени, найти инварианты, константы, которые остаются неизменными при переходе между системами отсчёта. Почему они показывают нам нашу судьбу как чёрное солнце, поглощающее свет? Возможно, это не угроза, а демонстрация неизбежного симбиоза, твоего же возможного будущего, если ты примешь их условия. Тебе нужно расшифровать вопрос, который они задают вселенной своим присутствием, а не отвечать на него выстрелом, не расслышав последнего слова, не поняв грамматики. Познание – тоже оружие. Иногда – единственное, что остаётся, когда все пушки уже отлиты в тишине.