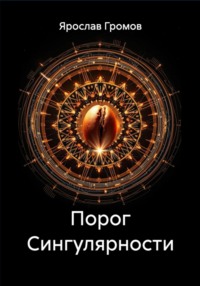Полная версия
Андромеда близко
На экране мандала начала пульсировать, дышать. Её невероятно сложная структура начала упрощаться, сводясь к базовому, элементарному символу – двум вложенным сферам, являющимся зеркальным отражением друг друга с полной инверсией внутренних свойств. Сфера внутри сферы, реальность внутри реальности, отражение, глядящее в само себя до бесконечности.– «Зеркало»… – прошептала Лидия, вжимаясь в монитор, будто пытаясь пройти сквозь него, слиться с изображением, стать частью этого геометрического откровения. – Не объект. Функция.
Процесс отображения. «F: X -___GT_ESC___ Y». Где X – мы. Y – они. Или наоборот. Ключевой вопрос в том, кто является оператором F? Они? Или мы сами, если сумеем трансформироваться? Если сумеем стать достаточно сложными, чтобы отразить их полностью, не разбившись о собственное несовершенство?
Мой рассудок, воспитанный на линейной логике и причинно-следственных связях, захлёбывался в этих абстракциях. Но тело, та самая древняя, животная часть, уже понимало. Понимало на уровне инстинкта, на уровне клеточной памяти, хранящей отпечатки всех эволюционных шагов, всех страхов и прорывов. Это было приглашение. Или окончательная формулировка приговора. Следующий шаг в этом диалоге был за нами. За мной. За моей способностью удержать в сознании это зеркало, не отвернуться, не сломаться, не сойти с ума от осознания собственной ничтожности и одновременно космической значимости этого момента.
И тогда мир растворился.
Это не была потеря сознания в клиническом смысле. Это было замещение одной реальности другой. Стены, лица коллег, свет ламп, звуки оборудования – всё слилось, утратило форму, консистенцию и значение, не оставив в оперативной памяти ни малейшего следа. Не наступила темнота. Не залил свет. Произошло прямое проецирование информационного паттерна в нейронную сеть. В наш коллективный мозг, в то поле, что связывало операторов «Гиппократа» в единый когнитивный контур. Мы стали одним воспринимающим органом, одним глазом, смотрящим в бездну, и бездна смотрела в нас, заполняя всё собой.
Мы увидели Землю. Не планету-шар на синем фоне. Мы увидели Разум. Гигантский, дремлющий нейрокосм, раскинувшийся в границах биосферы. Океанские течения текли как аксоны, передавая сигналы тепла и солёности. Тектонические плиты пульсировали с медленным, вечным ритмом, аналогичным работе лимбической системы. Радиошум городов, наши разговоры, молитвы, песни, крики – всё это выглядело как гамма-всплески воспалённой, гиперактивной коры больших полушарий. Атмосфера представляла собой глиальную оболочку, фильтрующую космические лучи, регулирующую потоки информации. Мы, человечество, предстали в этой картине симбионтами? Инфекционным агентом? Нейротрансмиттерами, чьё предназначение оставалось для нас непостижимым? Мы были искрами на поверхности гигантского Мозга, чьё сознание, если оно существовало, измерялось геологическими эпохами, а не мгновениями, чьи мысли были движением континентов, а сны – ледниковыми периодами.
Видение не осуждало. Оно констатировало. С хладнокровием гистолога, рассматривающего под микроскопом и здоровые клетки, и начинающиеся метастазы. Наша гордость, наши войны, наше искусство, наши открытия – всё это было внутренними процессами этой сущности. Проявлениями её сна. Или симптомами её болезни. Мы не могли это знать. Мы могли только видеть, чувствовать масштаб, и этот масштаб раздавливал индивидуальное «я», как гравитация чёрной дыры раздавливает звезду.
Фокус восприятия сместился. Мы увидели себя. Весь вид, Homo sapiens, в его целостности. Наша история пронеслась перед нашим внутренним взором не как линия, а как многомерный, запутанный клубок причинно-следственных петель, временных петель, вероятностных ветвей. Огонь, колесо, уравнение Максвелла, первый поцелуй, Большая хартия вольностей – всё это оказалось топологически, неразрывно связанным с каждой войной, каждой молитвой, каждой пролитой слезой, каждой брошенной пластиковой бутылкой в океане. Причинность, линейное время оказались иллюзией, порождённой ограниченностью нашего восприятия. Всё было связано здесь и сейчас. Всё существовало одновременно в гигантской голограмме бытия. И в её центре, отражаясь в каждом нашем творении и каждом акте разрушения, стояли Они. Оператор F. Функция отражения, преобразования, оценки. Они вычисляли интегральное свойство голограммы под названием «Человечество». Её устойчивость. Её потенциал к сингулярности. Её внутреннюю красоту и её чудовищные противоречия. И они делали это с абсолютной, безличной точностью, как Вселенная вычисляет траекторию падающего камня.
Результат этого вычисления был той всепроникающей, нечеловеческой печалью, что мы ощутили ранее – не эмоцией, а логическим выводом. Решением сложнейшей теоремы. Их грусть ошеломила своей безличностью. Это была грусть математической истины, неопровержимой и абсолютной. Они смотрели на нас как на инфантильное, искажённое отражение в кривом зеркале эволюции. И теперь они поднесли это зеркало ко всей нашей биосфере, ко всей коллективной психике. Оно показывало глубину. Бездонную, безразличную, ужасающую и прекрасную в своей сложности. Мы были лишь одним из возможных паттернов. Неоптимальным. Неустойчивым. Другие пути были возможны, и это знание оказалось самым невыносимым. Осознание того, что мы могли бы быть другими, лучше, гармоничнее, но мы – это мы, со всеми нашими язвами и нашим великолепием.
Я понял, чего мы боимся сильнее, чем физического уничтожения. Мы боимся Понять. Понять, что являемся ошибкой, тупиковой ветвью, сырым, недоведённым до ума материалом. Наш индивидуальный и коллективный нарциссизм, наша вера в собственную исключительность стояли на самом краю этой смысловой пропасти и смотрели вниз, в ледяную пустоту объективной оценки. И эта пустота смотрела вверх, без осуждения, без гнева, только с бесконечной, уставшей печалью вечного школьного учителя, видящего, как талантливый ученик раз за разом выбирает путь саморазрушения.
Проекция исчезла так же внезапно, как и появилась. Она оставила после себя чувство фантомной ампутации, потери части собственного «я». Я сидел в кресле оператора, пристёгнутый ремнями, которые врезались в плечи, оставляя багровые полосы. Датчики вокруг визжали тревогу, зашкаливая. По моей щеке катилась единственная слеза – слеза того Олега, который умер десять минут назад, не выдержав тяжести этой правды. В лаборатории стояла гробовая, абсолютная тишина, которую разрывали только прерывистый писк кардиомонитора и чьё-то сдавленное, заглушённое всхлипывание в углу. Мы все вернулись в свои тела, но эти тела стали чужими, тесными, убогими, как старые костюмы, из которых мы выросли за мгновение вечности.
Внутри меня была пустота. Ни страха, ни любопытства, ни гнева. Вселенская, ледяная усталость. Апофеоз одиночества разумного существа. Оказывается, мы не одиноки во Вселенной. Мы одиноки в контексте собственной природы, которая не соответствует, не резонирует с чем-то большим, высшим. Как рыба, внезапно осознавшая, что не может дышать воздухом. И что воздух – и есть настоящий, основной мир, полный света и полёта, навсегда закрытый для существ, рождённых в воде. Эта мысль была тише шёпота, но тяжелее нейтронной звезды.
Спустя минуту, сквозь навязчивый звон в ушах, я различил голос матери. Она смотрела на потемневший, теперь пустой экран. Её лицо было пепельного цвета, кожа казалась прозрачной, натянутой на скулы, под которой проступали тёмные тени усталости и понимания.– Они пришли не завоевывать, – произнесла она, и каждое слово давалось ей с огромным усилием, будто она поднимала гирю, каждую букву вытаскивая из глубин истощённого организма. – Они даже не пришли, чтобы судить. Суд был вынесен давным-давно, в самый момент нашего появления на этой скале, как побочный продукт вселенских вычислений. Они пришли, чтобы показать нам приговор. Чтобы мы прочли его сами. Или… – она с трудом, медленно повернула голову ко мне. В её глазах, красных от бессонницы и нечеловеческого напряжения, мелькнуло что-то хрупкое, глубоко человеческое, не учёное, материнское. – …или чтобы показать, что приговор можно обжаловать. Но для этого нам необходимо перестать быть теми, кто мы есть. Разбить зеркало и увидеть, кто его держит. Понять, готовы ли мы к тому, чтобы его лицо стало нашим. Чтобы оператор F стал нами. Чтобы мы стали функцией отражения и преобразования сами для себя.
«Разбить зеркало». Как разбить функцию? Только перестав быть её прообразом. Изменив X. Или найдя точку, где X и Y совпадают. Где мы и они – одно и то же, две стороны одного процесса. Путь лежал через слияние. Через болезненное, мучительное расширение сознания за пределы человеческого, за пределы биологического. Через смерть «человеческого» в себе как доминирующей парадигмы. Через рождение чего-то нового, чьего имени мы не знали, чьи контуры только угадывались в дрожании света на экране. Это была эволюция, ускоренная до мгновения, революция онтологического масштаба. И мы стояли на её пороге, дрожа от холода и ужаса перед неизвестностью.
Я поднял взгляд на амулет, всё ещё лежавший в крио-боксе. Он больше не казался ключом. Он был пропастью. Бездной между тем, что мы думаем о себе, и тем, что мы представляем собой в семантическом поле Вселенной. Бездной, в которую теперь предстояло прыгнуть всему виду. Чтобы эмпирически проверить, умеем ли мы летать. Или разбиться, доказав Антантам их древнюю, печальную, безличную правоту. Этот прыжок был неизбежен. Вопрос был только в том, совершим ли мы его осознанно, как акт свободной воли, или нас столкнут в него, как сонного ребёнка с края обрыва.
Тяжесть этой возможной гибели осела на моих плечах, как свинцовый плащ, как вес целой планеты. Она превращала меня из живого человека в памятник, в стелу. В надгробие самому себе. Или, возможно, в первый, краеугольный кирич нового вида, новой фазы существования. Эта двойственность разрывала меня на части. Я чувствовал, как старые нейронные связи, выстроенные за тридцать лет жизни, трещали и рвались под тяжестью нового знания. Как формировались новые, странные, алогичные связи, ведущие в неизвестность. Боль была строительным материалом, цементом для этого нового здания сознания.
Дыра в реальности зияла теперь не на экране монитора, а внутри меня, в самой сердцевине личности. Первый шаг в эту пропасть предстояло сделать мне. Ментально. Эмоционально. Сейчас, в эту самую секунду. Отказаться от Олега. От его страхов, его сомнений, его идентичности, его неотъемлемого права быть человеком в старом, привычном смысле этого слова. Отпустить всё, что делало меня мной, и довериться тому странному, пугающему чувству, что зародилось в глубинах мозга, как новый орган, как шестое чувство, пробуждённое взглядом из бездны.
Мать смотрела на меня, не отрываясь. В её взгляде больше не было учёного, командира, стратега. Осталась только мать, провожающая сына в однонаправленный путь, в точку невозврата. Туда, откуда нет и не может быть возврата в прежний мир, в прежнее «я». Она знала это. Я видел это знание в глубине её глаз, в лёгкой дрожи губ, которую она с усилием подавляла. Она отдавала меня на алтарь эволюции, как когда-то отдавала на алтарь войны, и эта жертва была для неё страшнее любой физической потери.
В этой густой, давящей тишине «Объекта Зеро», под монотонный, приглушённый вой сирен моего собственного тела на мониторах, начался самый важный, самый тихий диалог в истории человечества. Внутренний диалог моего старого «я» с тем, что могло – и, по всей видимости, должно было – прийти ему на смену. С тенью будущего, стоящей на пороге. Голос Генерала в моей голове требовал действия, контроля, наступления. Голос Учёного настаивал на анализе, осторожности, сборе данных. Голос Шамана, едва слышный до этого момента, теперь звучал ясно и неумолимо, говоря о доверии, о прыжке в веру, о необходимости стать пустым сосудом, чтобы быть наполненным чем-то большим.
Ответа не было слышно никому в лаборатории. Кроме меня. И от этого беззвучного ответа, от выбора, который произойдёт в глубинах нейронных сетей моего сознания, зависело теперь всё. Будущее вида висело на волоске, и этот волосок проходил через разум одного человека, стоящего на грани между человечеством и чем-то иным. Я закрыл глаза, отключив внешний мир, погрузившись во внутреннюю вселенную боли, страха и зарождающегося, странного понимания. Прыжок был неизбежен. Оставалось только решить, открыть ли глаза во время полёта.
Глава 3 Паттерн сознания для тишины
Лед. Физическая граница, последний рубеж картографии перед белым безумием, великой мистификацией природы, скрывающей под плоской маской первозданного холода бурлящую, невыразимую сложность. Под крылом Ту-214Р лежало безмолвие, растянувшееся до полного слияния с низким свинцовым куполом неба – два монолита пустоты, зажавшие тонкую металлическую стрелу в идеальном, безжизненном равновесии. Самолет резал арктический воздух на пределе звука, его корпус мелко вибрировал, передавая мне частоту работы машин – стабильный, низкий гул, похожий на размеренное биение искусственного сердца.
Эта вибрация отдавалась в костях, накладывалась на фоновую пульсацию моей собственной боли, хронической мигрени, что делало меня живым сейсмографом искажений. Каждый нервный узел, каждый синапс моего мозга был откалиброван титаническим усилием воли для одной цели – распознавать флуктуации в ткани реальности. Боль выступала обратной стороной дара, платой за способность ощущать саму субстанцию бытия как нечто плотное, волнующееся, имеющее текстуру и градиенты. Я летел на объект «Полярный круг». В иллюминаторе проплывала бесконечная схема из трещин и торосов – диаграмма замороженных процессов, разломов, тектонических воспоминаний.
Мы десятилетиями искали ответы в дальнем космосе, строили телескопы, ловили нейтрино, вслушивались в радиоэхо Большого взрыва. А они, эти ответы, возможно, всегда лежали здесь, под ногами, вмороженные в лед, слишком крупные, слишком фундаментальные для нашего сиюминутного масштаба восприятия. Сверхзвуковой след самолета рассекал небо, мимолетный шрам на лице планеты. Шрам для вечности, которая, как я начал подозревать, наблюдала за этими царапинами со спокойным, непостижимым вниманием взрослого, следящего за игрой детей с опасными игрушками, чьи правила им никогда не постичь.
Планшет на моих коленях светился холодным синим, ледяным светом полярной звезды, светом, лишенным тепла, но полным информации. Файл «Молчание. Протокол 1-17». Расшифровки первого диалога с феноменом «Зеркало». Ученые из группы моей матери, люди с мировыми именами в квантовой лингвистике и теории информации, разбирали семантику посланий с усердием средневековых теологов, разгадывающих зашифрованные пророчества в ветхих манускриптах.
Слово «зеркало» обрастало гипотезами, каждая из которых была изящным замком из карт, построенным на зыбком песке наших допущений: метафора рефлексии, инструмент пассивного наблюдения, принцип обратной связи, портал в симметричную вселенную. Мой мозг, годами выстраивавший железную логику систем ПВО, глобального удара, контрразведки, искал в этих данных иное. Искал паттерны появления, хронометраж активностей, энергетические сигнатуры, методы воздействия на электронику. Искал промежутки между посланиями, которые можно было бы классифицировать как уязвимости, как окна для ответного действия.
Моя психика, откалиброванная на распознавание врага, отказывалась принимать модель, где противник не атакует, не угрожает, а демонстрирует… сострадание. Это ломало все алгоритмы оценки угроз, все инстинкты, выкованные в горниле Пост-Стирания. Прямое вторжение, открытая агрессия – это было бы проще. Это укладывалось в привычные категории силы, ответного удара, тактического отступления, стратегических жертв. Здесь же правила игры отсутствовали полностью, оставляя после себя вакуум, который сознание стремилось заполнить паникой.
– Они демонстрируют нам нас самих, генерал, – голос профессора Орлова врезался в гул турбин, острый и сухой, как треск льда под ногой, предвещающий провал в черную бездну. Он сидел напротив, его пальцы механически перебирали деревянные четки, выточенные из окаменевшего древесины мамонтовой сосны. Стук шариков создавал навязчивый, раздражающий ритм, пытающийся синхронизироваться с пульсирующей болью в моих висках, создать резонанс, который вывел бы мой контроль из строя. – Их молчание – активная тишина. Вопрос, высеченный в самой ткани реальности. Это не вопрос «что вы можете?». Это вопрос «кто вы есть?». Они ставят зеркало, составленное из суммы наших поступков, технологий, коллективных страхов, надежд, самого нашего способа воспринимать действительность. И ждут, что мы в нем увидим. Отражение определяет отражаемое. Наша реакция на их присутствие становится диагнозом для всей нашей цивилизации.
Я отвел взгляд от планшета к иллюминатору, давая глазам отдохнуть от мерцания символов, погрузившись в созерцание вечного. Глыбы льда, вывернутые колоссальным тектоническим давлением, напоминали руины. Руины городов, построенных по нечеловеческим, чудовищно величественным чертежам, архитектуре абсолютной целесообразности и абсолютного безразличия.
– Мы контролируем воздушное пространство, профессор. Мы контролируем территорию в радиусе пятисот километров. Мы установили сейсмические датчики, гравитационные детекторы, спектральные анализаторы на все диапазоны. Их метод – вопрос без дула у виска. Это допрос в абсолютно пустой, белой комнате, где единственное орудие следователя – ваше собственное отражение в идеально отполированной стене. Беспредметная провокация. Солдат понимает правила боя. Даже в самой грязной, самой асимметричной войне существуют правила, пусть и неписанные, пусть и сводящиеся к простейшему «убей или будь убит». Здесь я правил не вижу. Только наблюдение. Только эта… тишайшая агрессия чистого, безоценочного созерцания.
– Или правила лежат за пределами вашей парадигмы контроля, – парировал Орлов, и в его глазах, обычно усталых, запавших, вспыхнул холодный азарт исследователя, нашедшего новый, невероятно сложный пазл, противоречащий всем известным законам. – Вы изучали мой отчет по инциденту в Токио. Они проходили сквозь трехметровую железобетонную стену бункера, усиленную стальными листами и кевларовой сеткой. Не разрушали, не плавили, не испаряли. Проходили. Гипотеза – точечная, контролируемая аннигиляция пространства-времени на планковском уровне. Они не преодолевают барьер. Они стирают саму идею барьера, саму концепцию «препятствия» из локального участка реальности. И что они делают с этой силой, способной разбирать мироздание на фундаментальные кирпичики и складывать обратно в ином порядке? Они останавливаются перед пятилетним ребенком, уронившим мороженое на асфальт. Создают из воздуха, света и вакуумной флуктуации новую порцию, идеальной ваньковой формы, с тем же химическим составом, температурой, даже с микроскопическим узором кристаллов. Простой символ утешения. Они каталогизируют не нашу физику, Олег Игоревич. Они каталогизируют нашу душу. Нашу мораль как измеримый, физический феномен. Нашу боль как данные, нашу радость как квантовое состояние, нашу любовь как сложную топологическую фигуру в гильбертовом пространстве.
Я развернулся к нему полностью. Кожаное кресло резко взвизгнуло, звук потонул в реве двигателей, но жест остался, зафиксированный в мышечной памяти, жест командира, прерывающего теоретические построения жесткой реальностью тактической карты.
– Я анализировал их паттерны перемещений за последние восемнадцать месяцев, профессор. С помощью «Зогмака-Младшего», на периферийном кластере. Вероятность – 98.7 процентов. Они материализуются в L-точках – точках социально-исторического напряжения, коллективного пси-резонанса. Пирамиды в Гизе – не просто гробницы. Это гравитационные аномалии человеческой боли, веры, страха, амбиций, собранные за тысячелетия, сконцентрированные в камне. Мегалиты. Места крупных катастроф, где одномоментно прервались тысячи биографий, создав всплеск смыслового вакуума. Здания парламентов в моменты ключевых, судьбоносных голосований, когда будущее нации висит на волоске. Они картографируют не поверхность планеты. Они картографируют ее семантический каркас, каркас нашей цивилизации. Ее узлы принятия решений, точки коллективного психологического резонанса. Это стратегическая разведка высшего порядка, разведка смыслов, проводимая существами, для которых информация – первичная субстанция. Мороженое ребенку – просто точка данных в колонке «Реакция на микропотерю. Уровень эмпатии у юных особей вида Homo Sapiens. Форма компенсаторного поведения». Всего лишь байт информации в колоссальной базе данных. И все.
Орлов сжал четки в кулаке так сильно, что тонкое дерево затрещало. Костяшки его пальцев побелели, выступив под тонкой, пергаментной кожей. В его глазах, за стеклами очков, мелькнуло что-то вроде боли, глубокого разочарования. Он увидел свою философию, всю красоту загадки, весь мистический трепет перед непостижимым, вывернутые наизнанку моим сухим, безжалостным анализом, превращенные в стерильную доктрину оценки угрозы, в таблицы и графики.
Между нами лежала пропасть в тысячу лет эволюции сознания. Он, наследник эпохи Просвещения, последний романтик науки, искал смысл, великое уравнение, объединяющее дух и материю. Я, продукт Пост-Стирания, солдат, выросший в мире, где абстракции убивают быстрее и вернее пуль, искал уязвимость. Точку приложения силы. Слабое звено в цепи. Наш диалог был диалогом двух цивилизаций, уместившихся в салоне летящего самолета.
Рев турбин изменил тональность, сбавил частоту, перейдя с боевого гула на предупредительный, завывающий вой. Самолет с плавным, пронзительным звуком, напоминающим стон гигантского зверя, пошел на снижение. В монохромном хаосе льда и снега впереди, там, где белизна сливалась с серостью неба, возникла черная щель, тонкая, как лезвие бритвы, как разрез на теле планеты. Она расширялась по мере приближения, превращаясь в ангар, вгрызающийся в скальное основание острова, техногенную рану, прикрытую снежной повязкой. Объект «Полярный круг».
Это была не лаборатория в обычном, академическом смысле. Это был передовой рубеж в войне нового типа, форпост на границе известной физики, где основным оружием стали вопросы, а боеприпасами – биты сжатой информации, где линия фронта проходила не по параллелям и меридианам, а через синапсы человеческого сознания, через интерпретационные модели реальности.
Лифт, массивная капсула из армированной стали, умчал нас вниз, в чрево скалы, в мир, отрезанный от солнца, ветра и времени. Давление нарастало с каждой десяткой метров, закладывало уши, сжимало грудную клетку, напоминая о весе планеты, давящей на плечи. Белый стерильный свет ламп сменился приглушенным, тревожным красным – светом готовности, светом рубежа, за которым начиналось неизвестное, светом, окрашивающим лица в цвет старой крови. Двери раздвинулись беззвучно, впуская нас в эпицентр, в святая святых.
Главный зал поражал размерами и атмосферой строгого, почти религиозного ритма. Он был вырублен в базальте, его стены сохраняли следы буров, шершавые и величественные. Воздух здесь не просто вибрировал – он гудел, низкочастотный, всепроникающий гул исходил от массивного цилиндрического блока в центре, похожего на горизонтально установленный реактор или сердце кибернетического колосса. Этот гул резонировал с костями, отдавался в зубах, накладывался на вечную вибрацию в моих висках, пытаясь найти созвучие, настроиться на мою боль как на камертон.
«Зогмак». Квантово-нейронный массив пятого поколения. Миллиард кубитов, охлажденных до температур, на микроскопическую долю превышающих абсолютный ноль, сплетенных в паутину логических связей с искусственными нейронами биологического происхождения. Его задача – вычислять вероятности смыслов, разворачивать сжатые концептуальные матрицы, полученные от артефакта, переводить язык высших абстракций, язык чистого опыта, на шаткий, двусмысленный язык человеческой логики. Машина дышала. Цикл за циклом. В ее недрах рождались и умирали целые вселенные интерпретаций, миры, построенные на альтернативных причинно-следственных связях. Она была оракулом, говорящим на языке математики.
В центре зала, на базальтовом постаменте, похожем на древний алтарь, жертвенник, принесенный в дар непостижимому, стоял Он. Амулет. Небольшой, темный, отполированный временем и бесчисленными прикосновениями камень, его поверхность поглощала свет, оставляя лишь слабый маслянистый отблеск. Он был опутан тончайшей паутиной оптоволоконных кабелей, похожих на серебряные нити паука, ткущего свою сеть между мирами. Кабели тянулись к пульсирующему синему ядру «Зогмака», образуя единый симбиотический организм, гибрид древней тайны и предельной технологии. Камень-интерфейс. Дверь. Ключ. И замок одновременно.
Рядом, в прозрачной капсуле с панелями жизнеобеспечения, куполом из бронированного стекла, находилась Ирина Петровна Севастьянова. Моя мать. Она казалась хрупкой тенью на фоне громоздких машин, тенью, которую вот-вот унесет поток энергии, бьющий из камня. Но ее глаза, серые и острые, как осколки льда, выточенные ветром, горели холодным, ясным пламенем фанатичной концентрации. В них читалась усталость, доведенная до состояния сверхпроводящей нити, вот-вот готовой вспыхнуть, превратившись в чистую энергию познания.