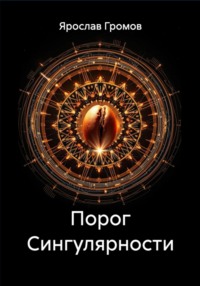Полная версия
Андромеда близко
И тогда, как шум крови в ушах, переходящий в гортанный, древний, доречевой напев, сформировался третий голос – голос шамана, голос той части меня, что помнила лёд и звёзды до всяких цивилизаций. – Ты – не страж и не воин в этой битве. Ты – мост. Самый хрупкий и самый прочный элемент системы. Их холодная, тоскливая ностальгия по утраченному хаосу, по утраченной боли – прямое, зеркальное отражение нашей горячей, панической тоски по порядку, по смыслу, по бессмертию. Камень в твоей руке – не ключ и не оружие. Он – переводчик, преобразователь одной мерности в другую. Они ждут не твоего приказа и не твоего анализа. Они ждут твоего голоса, твоего уникального, искажённого сигнала. Спой им свою ноту – страх, гнев, глупость, ярость, слепую, ничем не обоснованную надежду. Спой им свою дисгармонию, свой разбитый ритм. И посмотри, дрогнет ли идеальное чёрное солнце на их знамени, задрожит ли его безупречный контур. В его мёртвой геометрии может таиться единственная трещина, единственный дефект. И имя ему – тоска. Тоска по случайности, по неожиданному дару, по незапланированному чуду, по тому, что нельзя архивировать, а можно только прожить.
Я поднял глаза, преодолевая тяжесть видения, как преодолевают гравитацию при старте, и встретил взгляд деда. Он смотрел на меня не как родственник, а как командующий в решающий, переломный момент битвы, оценивающий состояние своего последнего, самого ненадёжного, но самого важного резерва. Он молча ждал. Ждал, выдержит ли сталь последней проверки на разрыв, или треснет, открыв путь ледяному, беззвучному сквозняку из иной реальности прямо в это помещение, в этот последний оплот человеческого решения.
И в этот миг, под перекрёстным огнём трёх внутренних голосов и стального взгляда деда, я понял. По-настоящему, на клеточном уровне, в самой глубине костного мозга, осознал. Весь мой выбор, вся моя миссия, вся эта многовековая эпопея моего рода сводилась не к выбору между атакой и капитуляцией, между сопротивлением и принятием. Он сводился к выбору между мёртвой, но неприступной крепостью старых, отчаянных законов выживания – и попыткой спасти тлеющее, хрупкое, почти невидимое пламя самой жизни внутри неё. Даже если для этого придётся поджечь сами стены, бросить факел в пороховой погреб, превратив крепость в гигантский погребальный костёр, свет которого будет виден даже в самой «Андромеде», в их безупречном цифровом раю. Свет живого, неконтролируемого огня.
«Они пришли забрать своё», – прошептало во мне окончательное, кристаллизующееся, как лёд в мгновение абсолютного холода, прозрение. А что, если мы и есть их «своё»? Не данные, не биомасса, не архивные записи. А сама возможность выбора? Хаотическая, иррациональная, ничем не обусловленная свободная воля, способность сказать «нет» даже доводам разума, даже инстинкту самосохранения? То уникальное, страшное и прекрасное свойство, которое они добровольно утратили на пути к своему совершенству и по которому теперь бессознательно, как по фантомной боли, тоскуют, читая в наших хаотических жизнях ту самую поэзию, которую сами изгнали? Тогда наш ответ – не защита архива. Не война с будущим, которое когда-то было нами. Наш ответ – наше следующее действие. Нелогичное. Безумное. Абсолютно свободное. Не имеющее цели, кроме самого акта выбора, кроме утверждения: я есть, потому что я могу выбрать это. Сейчас.
Монитор передо мной внезапно дрогнул, задёргался и замер. Все графики, карты, мигающие потоки данных исчезли, растворились, как будто их никогда не было. На тёмно-сером, пустом, безжизненном экране, словно проявляясь изнутри самого стекла, из глубины кремния, проступила одна-единственная строка текста. Шрифт «Москва», точь-в-точь как на старой, тяжёлой механической машинке матери, на которой она печатала свои первые формулы, свои первые догадки о природе реальности, стуча по клавишам, как по костяшкам судьбы:
ЖДЁМ ВАШЕГО ХОДА. ВРЕМЯ ХОДА: НЕОПРЕДЕЛЁННО. СТАВКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ.
Игра, которую мы не начинали, которая шла, возможно, с самого первого вздоха разума в этой вселенной, приближалась к эндшпилю. Ставка в ней – не жизнь и не смерть. Это были бы мелочи. Ставка – само право нашего бытия быть нужным, быть значимым, быть автором собственной, пусть и корявой, истории, а не архивной единицей хранения в бесконечной, бесстрастной библиотеке вселенной. Право на опечатку в великой книге мироздания.
Я медленно, преодолевая сопротивление каждой мышцы, каждое волокно, кричавшее о безумии этого жеста, разжал ладонь. Базальтовый амулет лежал на ней тяжело и недвижимо, как остывшее сердце чужой, давно умершей планеты, как ядро чёрной дыры, застывшее в руке. Три внутренних голоса смолкли. Их спор был исчерпан. Они были лишь аспектами, инструментами, голосами прошлого, пытавшимися говорить от лица будущего. Выбор должен был сделать я. Цельный. Расколотый, но цельный в своём расколе. И он был сделан. В пользу четвёртого варианта. Варианта, которого не предлагал никто: ни Генерал с его стальной волей, ни Учёный с его холодным разумом, ни Шаман с его древней тоской. Варианта, которого не было в их протоколах.
– Олег, – сказал я, и мой голос прозвучал твёрдо, холодно, чуждо мне самому, будто его издавала не гортань, не голосовые связки, а сам базальт в моей руке, резонирующий с пустотой за окном, с тишиной между мирами. – Готовь основной канал связи с центральным узлом «Зеро». Открытый, незашифрованный, на всех доступных частотах, гражданских, военных, аварийных, на тех, что уже захвачены их семантическим шумом. Организуй непрерывную, цикличную трансляцию на все узлы, на все остатки сетей, которые ещё дышат, на все динамики в бункерах и на поверхности, в руинах. И принеси сюда микрофон. Не цифровой. Не совершенный. Старый, динамический, с катушкой, с лампой. Тот, что лежит в музее в третьем ангаре, под стеклом. С радиолампой, с ручным включением, с фанерным корпусом. Тот, что греется от работы и шумит собственным теплом, вносит искажения, живые помехи.
В глазах Николая Ивановича, в этих глазах-щелях, выжженных ветрами и войнами, мелькнуло быстрое, как вспышка беззвучной молнии в ледяной толще, понимание. Он увидел не отказ от его плана, не капитуляцию, не поэзию. Он увидел решение. Настоящее. Человеческое. Не генеральское, не учёное, не шаманское. Он увидел атаку, которую нельзя отразить, потому что она направлена не на уничтожение врага, а на признание его существования, на вовлечение его в диалог, где нашим оружием будет сама наша уязвимость. Он медленно, очень тяжело, как бы превозмогая внутреннее сопротивление всей своей военной сути, кивнул. Один раз. Резко. Весь его приказ. Весь его вклад в эту игру. Весь остаток доверия, которое он мог мне выдать в этот миг. Доверие к хаосу, к иррациональному, к тому пожару в архиве, который я собирался призвать своим голосом.
Мой ход. Не ход солдата, учёного или шамана. Ход человека, который решил остаться им, даже если это последний ход в партии.
Я поднёс холодный, отполированный временем и страхом базальт ко лбу, к источнику пульсирующей, вечной боли, к тому месту, где сходились все ауры, все предчувствия, все разрывы реальности. Камень жжал кожу ледяным холодом, который был жарче любого огня. Олег, бледный, но собранный, молча подал мне микрофон. Тяжёлый, латунный, потёртый до блеска в местах касания, пахнущий озоном, пылью и древним, сладковатым запахом канифоли. Лампа в его корпусе загорелась тусклым, тёплым, живым оранжевым светом, который никак не вязался со стерильным, голубоватым сиянием мониторов, со светом их реальности. Я щелчком включил передатчик на полную, немыслимую мощность. В эфир, в забитый семантическим шумом, вымороженный эфир, ушла сначала тишина – не та, мёртвая тишина фильтра, а наша, земная, наполненная фоновым гулом техники, прерывистым, нервным дыханием Олега, далёким, подземным скрежетом генераторов где-то в глубине бункера, биением моего собственного сердца, усиленного микрофоном до гула реактора.
И я, глядя в чёрный экран с той единственной, белой, как кость, строкой, начал нашептывать в сетку микрофона то, что пришло само, из той самой глубины, где рождаются сны и кошмары. Без плана. Без стратегии. Без цели, кроме самой передачи. Просто историю. Свою. Нашу. Всех, чьи голоса звучали во мне, чьи жизни отпечатались в моей ДНК. Со всеми ошибками, болью, грязью под ногтями, трусостью, подлостью, мимолётной, ничего не значащей добротой и безумной, упрямой, абсолютно иррациональной надеждой, которая и была, возможно, тем самым четвёртым вариантом, тем самым свободным, непредсказуемым ходом в игре с абсолютом. Ходом, который мог означать всё или ничего. И в этом «всё или ничего» заключалась вся суть того, что мы защищали. Суть, ради которой стоило сжечь архив дотла.
Глава 2 Объект «Зеро». Частота хронона
Тишина в «Объекте Зеро» обладала плотностью, измеряемой в тоннах на квадратный сантиметр. Она состояла из гула охлаждающих контуров, едва уловимой вибрации нейтринных экранов и свистящего напряжения в височных долях после семи часов непрерывного мониторинга. Воздух сохранял запах озона от перегруженных квантовых процессоров и стойкий металлический привкус коллективного страха – адреналиновый выброс, впитавшийся в одежду, в стены, в лёгкие, превратившийся в фоновый элемент реальности. Эта смесь создавала специфическое давление на барабанные перепонки, будто мы находились на дно океана, куда не доходил свет, а только давление, абсолютное и молчаливое.
Мои пальцы сами собой сомкнулись на холодных ручках кресла оператора. Боль, та самая вечная спутница, пульсировала за правым глазом, синхронизируясь с ритмом мигающих индикаторов. Она служила якорем, физическим напоминанием о границах тела, которое теперь стало инструментом, датчиком, простирающимся за пределы кожи.
Мониторы показывали пульс планеты. «Гиппократ», наша прогнозная сеть, изначально созданная для моделирования эпидемий и миграций вирусов, теперь регистрировала единственную пандемию. Страх. Семь миллиардов восемьсот миллионов диагнозов, поставленных в момент материализации Золотых. Антантов. Кодовое имя всплыло в зашифрованном чат-логе аналитического центра НАТО за сто восемьдесят секунд до того, как их спутники ослепли. Они не взрывались, не выходили из строя. Они просто прекращали передавать данные, будто само акт наблюдения за сущностями вызывал коллапс квантовых состояний в чипах. Наблюдение уничтожало наблюдателя. Это был первый аксиоматический закон новой эры, неписаное правило игры, в которую мы вступили, даже не зная её названия.
Кирилл, наш ведущий оператор нейроинтерфейсов, сидел сгорбленный перед главной консолью. Его пальцы, обычно порхавшие по сенсорным панелям с точностью пианиста, лежали неподвижно, белые от напряжения, впившиеся в кромку стола. Я видел, как его скула нервно дёргалась под кожей, повторяя ритм тикающего где-то внутри метронома паники.– Тепловая подпись отсутствует, – его голос звучал монотонно, как аудиозапись судебного протокола. – Излучение Хокинга в радиусе куполов равно нулю. Гравитационные аномалии не выходят за пределы погрешности измерительных приборов. Мы фиксируем абсолютный ноль данных. Объективную пустоту, обладающую формой.– И формой этой является совершенная сфера, – добавил я, глядя на геодезические карты. – Идеальная. Погрешность измерений на шесть порядков ниже возможностей наших инструментов. Это не конструкция, Кирилл. Это утверждение. Геометрическая аксиома, вписанная в ткань пространства.
В дверном проёме возникла тень. Вошла Ирина Петровна, моя мать, бесшумно, в запачканном машинным маслом халате поверх защитного комбинезона. Она провела без сна семь суток, руководя обстрелом сибирского купола из модернизированного адронного ускорителя. Её лицо было серым от усталости, но глаза горели холодным, сфокусированным светом, будто она вглядывалась в микроскоп на пределе разрешающей способности.– Это отрицание объекта как категории, – произнесла она, подходя к экрану. Её голос, хриплый от неиспользования, резал тишину как стеклорез. – Они не выстраивают щиты. Они переписывают правила. Представь, что пространство-время – это высокоуровневое, стабильное программное обеспечение. Физические законы – его исходный код. Они вносят правки напрямую в ядро системы. В точке контакта реальность забывает о понятиях «прочность», «масса», «энтропия». Мы бьём кулаком по фундаменту гравитации. И удивляемся, когда кулак растворяется в воздухе, как сон наяву.
Я перевёл взгляд с трёхмерного глобуса, где пульсировали метки аномалий, на сводный экран. Десятки квадратов: Антарктида, Мачу-Пикчу, Красная площадь, Гизы. Исполины стояли, не нарушая целостность ландшафта. Они нарушали причинность. Запись с камеры штурмовика под Норильском показывала, как пули, не долетев сантиметр до границы купола, не отскакивали и не плавились. Они рассыпались в мелкую, однородную серую пыль, будто вся их история – от формирования руды в недрах до момента выстрела – стиралась единым актом. Насилие было нашим первичным языком, базовым способом проверки границ мира. Их ответ заключался в молчании. В стене из чистой, неопровержимой логики.– Они обладают бессмертием? – спросил я. Мой собственный голос прозвучал чужим, плоским, лишённым обертонов, как у раннего речевого синтезатора.– «Смерть» – биологический термин, ограниченный контекстом углеродной жизни, – ответила Ирина Петровна, не отрываясь от спектрограмм. Её пальцы летали по голографической клавиатуре, вызывая новые слои данных. – Они оперируют категориями сохранения или потери информации. Наше оружие использует энергию низшего логического уровня. Мы – вирус, который пытается стереть текст, царапая поверхность монитора. Наши инструменты не соответствуют задаче. Они слишком примитивны для диалога с архитектором материи.
«Потеря информации». Я зацепился за эту формулировку. Значит, стереть возможно. Ключевой вопрос заключался в инструменте. Возможно, таким же кодом? Через осознание собственной внутренней противоречивости? Через создание такого смыслового паттерна, который бы нарушил их внутреннюю когерентность? Идея, зыбкая и опасная, начала формироваться на задворках сознания, где боль и интуиция сливались в одно.
На отдельном экране транслировалось экстренное заседание Зала Генеральной Ассамблеи. Президент крупной державы говорил о разуме, диалоге и общих ценностях. Слова были выверенными, правильными, отшлифованными десятилетиями дипломатии. И абсолютно пустыми, лишёнными референта в новой реальности, как заклинания на давно мёртвом языке. Наши ключевые концепции – «суверенитет», «права», «угроза» – висели в воздухе бесполезным семантическим грузом, балластом устаревшей парадигмы. Мы пытались говорить на языке политики с существами, для которых политика была таким же атавизмом, как для нас ритуальные танцы вокруг костра.
И тогда Антант в Париже обратил внимание. Не на объектив камеры. Сквозь него. Его «взгляд» – едва уловимое смещение внутреннего золотистого свечения – прошёл через оптику, через матрицы пикселей, через спутниковый сигнал и достиг мозга. Древней, рептильной части, ответственной за распознавание размера, угрозы, иерархии. Это был акт чистого феноменологического насилия. Сущность заставила себя быть воспринятой не как объект, а как Ужас. Абсолютный и неоспоримый. Затем она исчезла. Не переместилась. Её просто не стало в континууме нашей реальности.
Телеэфир рухнул в тишину. Десять секунд мёртвого эфира. Для меня они измерились серией ударов крови в висках, учащённым, почти болезненным биением сердца, холодной испариной на спине. Демонстрация метода завершилась. Они оперировали вниманием. Смыслом. Самим актом восприятия как инструментом. Это был урок, преподанный с безразличной жестокостью учителя, раздавливающего насекомое, чтобы показать классу принцип действия пресса.
После этого Лидия Семенова, наш ведущий лингвист-деконструктор, отбросила все существующие семиотические модели, смахнув виртуальные схемы с голографического стола широким жестом. Её лицо, обычно спокойное и сосредоточенное, исказила гримаса интеллектуального потрясения.– Они манипулируют не информацией, Олег, – произнесла она, и её глаза горели лихорадочным блеском учёного на грани прорыва. – Они манипулируют контекстом, тем семантическим полем, в котором информация обретает значение. Это метаязык. Их «взгляд» был пакетом команд, вшитым в электромагнитную волну на уровне её квантовых состояний. Командой на активацию базового паттерна «УЖАС» в зрительной коре и миндалине. Они скомпилировали эмоцию и запустили её в нас. Как исполняемый файл. Прямое программирование восприятия через фундаментальные носители.
В основной лаборатории «Зеро» воцарилась неподвижность. Воздух, казалось, сгустился до состояния геля. Мой амулет – «камень» – покоился в криогенном боксе, опутанный тончайшими волокнами оптоволоконных датчиков. Он представлял собой нулевую точку в уравнении, сингулярность в наших расчётах. Я был привязан к этой сингулярности. Мониторы биометрического следа показывали моё тело под непривычным углом: спектры мозговой активности, кванты в мембранах нейронов, флуктуации пси-поля. Я перестал быть человеком в привычном смысле, превратившись в карту неизвестной территории, в живой датчик, чьи показания были написаны на языке боли и резонанса.
Лидия не отрывала взгляда от спектрограммы сигнала Антантов – сложного излучения в частотах, граничащих с реликтовым фоном. Её пальцы дрожали, когда она увеличивала масштаб, пытаясь выделить повторяющийся паттерн.– Это не язык в лингвистическом понимании. Не музыка, – говорила она, больше себе, чем нам. – Здесь отсутствуют дискретные символы, синтаксические конструкции. Это фрактальный всплеск смысла. Каждый фрагмент волны содержит в себе полный паттерн целиком. Они передают не сообщение, а состояние смыслового поля. Как если бы можно было передать ощущение боли через мгновенное изменение фундаментальных физических констант в объёме твоего черепа. Они говорят на языке самой реальности, а мы пытаемся перевести это на наш жаргон, теряя суть.– Они ведут коммуникацию с планетой? Со всей биосферой разом? – спросил Кирилл, не отрываясь от консоли, где потоки данных текли реками света, водопадами чисел, лавиной нерасшифрованных символов.– Хуже, – ответила Лидия, и в её голосе, впервые за все годы совместной работы, прозвучала неуверенность, трещина в фундаменте академической непоколебимости. – Они, возможно, и не «говорят» в нашем понимании целенаправленного общения. Они существуют в таком состоянии, и их существование является постоянным излучением этого поля. Как звезда излучает свет и тепло в силу своей природы. Мы пытаемся расшифровать не послание, а сам факт их онтологии. Их способ бытия в универсуме. И этот способ фундаментально противоречит нашему.
Наш гибридный ИИ, «Зогмак», сжигал тераватты энергии, пытаясь найти логику, применить алгоритмы распознавания паттернов. Его виртуальные ядра раскалялись до температур, близких к точке плавления кремния, в тщетной попытке сжать бесконечность в конечный набор правил.– «Зогмак» выдаёт семнадцать тысяч интерпретаций в секунду! – доложил Кирилл, и в его чётком, техническом тоне появилась заметная трещина, сдавленность. – От декларации войны до предложения о симбиозе! Вероятность каждой интерпретации – исчезающе мала! Критериев для выбора нет! Это белый шум смысла, информационный взрыв, который не несёт информации! Он просто есть, как есть гравитация, как есть скорость света!
Голос моей матери разрезал гул систем, холодный и точный, как лезвие криотома. Она повернулась от экрана, и её взгляд, острый и безжалостный, скользнул по нам, оценивая, измеряя степень нашего понимания.– Останови его, Кирилл. Ты пытаешься измерить океан решетом с ячейкой в метр. Их мысль нелинейна и обладает свойством квантовой суперпозиции. Она пребывает во всех возможных смысловых состояниях одновременно. Коллапс в конкретный «смысл» происходит только при взаимодействии с подходящим резонатором. Наш ИИ – не резонатор. Он быстрый, но примитивный калькулятор, который тычется лбом в стену трансцендентного уравнения, пытаясь решить его сложением. Нам нужен другой подход. Нам нужен мост. Или, точнее, переводчик.
В наступившей тишине я услышал, как Кирилл сдерживает прерывистое, поверхностное дыхание. Мать повернулась от экрана. Её взгляд был лишён человеческих эмоций – только холодный, хищный интерес исследователя, стоящего на пороге открытия, равного по масштабу катастрофе. Но глубже, в тенях под глазами, в едва заметном подрагивании уголка губ, я увидел то же, что разъедало и меня изнутри. Страх перед небытием смысла. Перед осознанием, что вся наша наука, философия, культура – всего лишь детские каракули на полях настоящей Книги Мироздания, чьи буквы сложены из звёзд, а предложения длятся миллиарды лет.– Ключ архаичный, – проговорила она, глядя на амулет за кварцевым стеклом. – Допотопный, в прямом смысле слова. Он функционирует на принципах, которые наша физика только начала подозревать на уровне математических абстракций. Теория информации как фундаментальной субстанции. Планковская длина – минимальный квант логического утверждения «да» или «нет». Этот камень настроен. Как камертон, настроенный не на частоту звука, а на базовую аксиому бытия. На утверждение «Я есмь». И он ждёт ответного утверждения. Диалога на уровне онтологических оснований.
Её слова повисли в вакууме напряжённой тишины. «Утверждение бытия». Значит, камень был не просто предметом. Он был вопросом, сформулированным на языке самой реальности. Антанты – ответом. Диалогом сущностей более высокого порядка, в который мы, человечество, пытались вклиниться с нашими ракетами и теориями, как ребёнок, пытающийся участвовать в разговоре взрослых, тыча пальцем в картинки. Нам нужно было вырасти. Или умереть, пытаясь.
Ирина Петровна кивнула двум техникам у пульта управления. Включился усилитель резонанса, подключённый напрямую к датчикам, считывающим состояние камня. В воздухе запахло озоном ещё сильнее, заряженные частицы закружились в спиралях, видимых только через поляризационные фильтры камер.
Феномен прошёл не через органы слуха, а через кости. Через зубы, через затылочные бугры. Глубокая, инфразвуковая вибрация, смещавшая жидкости в вестибулярном аппарате, вызывавшая волну тошноты и головокружения. Камень в крио-боксе вспыхнул холодным, безтепловым светом, будто вывернутым наизнанку. Воздух над ним задрожал, заставив вибрировать с частотой в несколько герц толстое кварцевое стекло, оставляя на его поверхности интерференционные кольца, расходящиеся, как круги по воде от брошенного в бездну камня. Но здесь бездной было само время, а камень падал вверх, к истоку.
На экране перед Лидией хаотичный лес линий спектрограммы вдруг сжался, схлопнулся в точку, а затем развернулся. Перед нами возникла идеально симметричная, многослойная мандала. Геометрический узор такой сложности и совершенства, что человеческий мозг, минуя сознательную обработку, мгновенно идентифицировал его как Нечто Осмысленное. Наделённое чудовищной, неопровержимой внутренней уместностью. Красотой абсолютной формулы, решением уравнения, которое мы даже не успели записать. Это была мысль, отлитая в форму, идея, ставшая плотью света на экране.
В моей голове что-то дрогнуло и сместилось. Давно забытый, рудиментарный орган восприятия, атрофированный за тысячелетия эволюции, отозвался резкой, почти физической болью. Я чувствовал геометрию этой мандалы в затылочных долях, в темени, как слепец чувствует контуры брайлевского текста на кончиках пальцев. Она жгла изнутри, выжигая старые нейронные пути, прокладывая новые, странные и пугающие. Боль была ключом, отмыкающим дверь в иное восприятие.– Резонанс, – выдохнула Лидия. В её голосе смешались восторг первооткрывателя, увидевшего новый континент, и первобытный, инстинктивный ужас перед бездной. – Они отвечают ключу. Контакт установлен. Не на уровне обмена электромагнитными сигналами. На онтологическом уровне. Это диалог физических законов, обмен аксиомами. Они признали наш запрос. Теперь отвечают. Но их ответ… он превышает нашу способность к пониманию. Как если бы молекула воды попыталась понять океанскую бурю.– О чём он спрашивает? – голос Кирилла был хриплым, измождённым, будто он пробежал марафон по раскалённым углям, и каждый шаг оставлял шрам на душе.Я ответил, не думая, повинуясь тому самому пробудившемуся рудиментарному чувству, которое теперь жгло изнутри, как раскалённая спираль в темноте черепа.– Не «о чём», – сказал я. Мой собственный голос прозвучал глухо, отстранённо, будто доносясь из соседнего помещения, из прошлой жизни. – «Кто». Или «зачем». Это вопрос о праве на вопрос. О легитимности самого спрашивающего. О нашем основании бытия. Они спрашивают не о наших намерениях. Они спрашивают о нашем праве существовать в качестве спрашивающих субъектов. О нашей квалификации для диалога.
Все присутствующие в лаборатории обернулись ко мне. Во взгляде моей матери на долю секунды вспыхнул и погас холодный триумф – гипотеза подтвердилась, носитель ключа функционирует, биологический интерфейс работает. Я был не просто сыном, не просто оператором. Я был живым проводником, антенной, настроенной на частоту апокалипсиса. И этот факт наполнял меня ледяным, безрадостным спокойствием, как заключённого, услышавшего приговор и нашедшего в нём странное утешение окончательности.