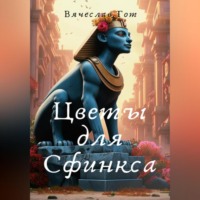Полная версия
Когда память врёт
Сердце упало и тут же взлетело до горла. Она была права. Потайное пространство существовало.
Она взялась за край люка и потянула на себя. Деревянная панель, замаскированная под вагонку, бесшумно отъехала в сторону, открыв чёрный прямоугольник пустоты. Оттуда пахнуло холодом, стерильной пылью и чем-то ещё – слабым, едва уловимым химическим запахом, как в больничных боксах.
Алиса сделала шаг внутрь, освещая путь фонарём.
Это была не комната. Это была камера. Узкая, как пенал, длиной метра четыре. Шириной – как раз те самые недостающие пять метров. Высота – под потолок. Стены, пол и потолок были покрыты гладким, белым пластиком или линолеумом, легко моющимся. Никакой мебели. Ни окон. Ни проводов. Только пустота, давящая своей искусственностью.
Всё здесь кричало о временном, функциональном назначении. Не для жизни. Для содержания. Для наблюдения.
Луч фонаря скользнул по стенам. И на дальней стене, прямо напротив входа, она увидела это.
Рисунок.
Детский, неумелый, нарисованный прямо на белом пластике чем-то вроде фиолетового фломастера. Дом с трубой, из которой вился дым. Рядом – две фигурки. Две девочки. Одна чуть выше, с палочками-руками, раскинутыми в стороны. Другая – поменьше, держащаяся за руку первой. У обеих – большие, лучистые улыбки.
И под рисунком, корявыми, но старательными печатными буквами, подпись: ЛИЯ.
Имя прозвучало в тишине камеры как взрыв. Не в ушах, а где-то в глубине черепа, отозвавшись долгим, болезненным гулом. Алиса прислонилась к холодной стене, чувствуя, как ноги подкашиваются.
Лия.
Не просто имя из аудиозаписи. Не абстрактная «жертва». Конкретная. Девочка, которая рисовала этот дом. Девочка, которая держалась за руку… чью?
Вспышка пришла не как образ, а как сенсорный ураган. Не картинка, а ощущение.
Тепло. Солнечное, летнее, разлитое по коже. Жар от раскалённого металла.
Звук. Визгливое, ритмичное скрипение пружин. Скрип-скрип-скрип. И смех. Звонкий, беззаботный, сливающийся в один поток с другим, таким же смехом. Два голоса, переплетённые в едином вихре радости.
Чувство. Абсолютная, несокрушимая безопасность. Рука в её руке – маленькая, липкая от сладкой ваты, доверчиво расслабленная. И знание, знание каждой косточкой: ты ответственна за эту руку. Ты – старшая. Ты – защита.
Качели. Двор старого дома. И она, Алиса, качает маленькую девочку. Девочку с тёмными, смеющимися глазами и двумя бантами, развевающимися на ветру. Лию.
Память была яркой, как кино, и такой же беззвучной. В ней не было слов, только чувства. И любовь. Острая, животная, защитная любовь. И… ужас. Тень ужаса, падающая на этот солнечный двор, как внезапная туча. Чувство, что эта идиллия хрупка, ненадёжна, что за углом поджидает что-то холодное и безликое, что может забрать это тепло. Навсегда.
Вспышка прошла, оставив после себя физическую боль – сжатие в груди, ком в горле. Алиса стояла, дрожа, в этой белой, стерильной коробке. Рисунок девочки по имени Лия смотрел на неё с высоты взрослого человека. Значит, она рисовала его, уже будучи здесь. В этой камере.
Зачем? Кто её сюда поместил? И где она теперь?
Алиса сделала шаг ближе к рисунку. Присмотрелась. Фломастер выцвел, но линии были четкими. Девочки держались за руки. И у той, что выше… в другой руке был нарисован странный предмет. Круг с палкой. Воздушный шарик? Или… солнце?
Она протянула руку, чтобы прикоснуться к рисунку, к этому единственному свидетельству жизни в этом мертвом месте. И в этот момент луч фонаря выхватил ещё одну деталь на полу, в углу, у самого плинтуса.
Маленький, смятый клочок бумаги. Алиса подняла его. Это была обёртка от леденца, старого, советского, «петушка» на палочке. Фантик был истрёпан, краски выгорели. Она машинально развернула его. На обратной стороне, на белом фоне, детской рукой было выведено карандашом:
«Алиска, не бойся. Я тут.»
Почерк. Корявый, детский. Но в нём угадывались черты её собственного, взрослого почерка. Та же форма букв «А» и «с», тот же наклон.
Мир перевернулся. Не «Лия, держись». А «Алиска, не бойся. Я тут».
Она была не свидетельницей. Не наблюдателем. Она была частью этого. Она знала Лию. Была с ней связана. И Лия, даже в этом месте, в этой белой камере, оставила ей послание. Послание, которое ждало её годами.
Алиса медленно опустилась на холодный пол, сжимая в руке истлевший фантик. Она смотрела на детский рисунок, и сквозь туман вытесненных воспоминаний пробивалась новая, чудовищная догадка.
Что, если «не ты…» – это не оправдание? Что, если это было начало фразы? «Не ты должна это видеть». «Не ты должна это помнить». «Не ты виновата».
И что, если плащ, чек, диагноз – это не доказательства её безумия, а части какого-то плана? Плана по сокрытию не убийства в парке, а чего-то другого. Чего-то, что случилось давно, в детстве. Чего-то, что привело к тому, что Лия оказалась в этой белой комнате. А она, Алиса, была вырезана из этой истории, как те 23 минуты из записи камер. Ей встроили новую память, новую личность. Архитектор. Одинокая. Без сестры.
Но рука помнила вес ножа. А сердце – тепло маленькой ладони в своей.
Она сидела в квартире-призраке, в месте, которого не существовало на планах, и понимала, что нашла не убежище Лии. Она нашла свою собственную могилу. Могилу той Алисы, которой она должна была быть. Той, у которой была сестра. Той, которая помнила.
И теперь та, кого стёрли, начинала проявляться на плёнке памяти, как утопленник на проявленной фотографии. Не как призрак. А как единственная ниточка к правде, которая была здесь, в этом детском рисунке и в смятом фантике с посланием, написанным для неё.
«Не бойся. Я тут.»
Но где? Где ты, Лия?
Алиса спрятала фантик во внутренний карман, рядом с сердцем. Она сделала последнее, что пришло в голову. Сняла со стены, аккуратно отковырнув края, тот кусок пластика с рисунком. Свернула его в трубку и положила в рюкзак. Это была не вандализм. Это было спасение свидетельства.
Она выбралась из белой камеры, закрыла потайной люк, убедилась, что всё выглядит как прежде. Вышла из подсобки, из подъезда – на улицу, в осенний воздух, который теперь казался густым и тяжёлым, как сироп.
У неё не было больше сомнений. Её память врала не потому, что была сломана. Ей врали. Систематично и жестоко. И теперь у неё было имя. Лия. И была комната-призрак. И было знание, глубокое, как шрам на запястье: чтобы найти Лию, ей придётся разобрать по кирпичику свою собственную, аккуратно выстроенную жизнь. И быть готовой к тому, что под ней окажется не фундамент, а бездна.
Глава 7: Тень спасительницы
Возвращение в квартиру на Полевой было похоже на попадание в музей чужой жизни. Все предметы – диван, стол, холодильник с магнитами из командировок – казались теперь бутафорией, расставленной для одного актёра в пустом театре. Алиса положила свёрнутый рисунок Лии на стол, рядом с чеком на клоназепам и странным ключом. Коллаж её разбитой реальности.
Она ждала. Не знала, чего именно – нового звонка, шагов за дверью, прорыва в памяти. Но первое послание пришло самым простым, почти архаичным способом.
На следующее утро, выходя на работу, она обнаружила в своем почтовом ящике, среди рекламных листовок и счетов, конверт без марки и адреса. Простой белый конверт, вложенный, должно быть, руками. Внутри лежали два билета. Бумажные, пожелтевшие, с волнистыми краями от перфорации. Кинотеатр «Иллюзион». Фильм: «Тот самый Мюнхгаузен». Даты не было, но по дизайну билеты явно были из конца 90-х или начала 2000-х.
На обороте одного из билетов детской рукой (той самой, что подписывала рисунок) было выведено шариковой ручкой: «Мы смеялись до слёз. Ты сказала, что вырастешь и тоже будешь всё выдумывать. А я сказала, что это не выдумки, а правда.»
Алиса замерла посреди подъезда. «Иллюзион» … Он сгорел лет десять назад. Фильм… Она его помнила смутно, как помнят что-то из глубокого детства. Но фраза «смеялись до слёз» отозвалась глухим эхом где-то за грудной клеткой. Она не могла вспомнить момент, но могла вспомнить ощущение – давящую боль в животе от смеха, слезы, щипающие глаза, чувство, что мир прекрасен и полон чудес. И рядом – тот же беззвучный, солнечный смех, что и в памяти о качелях.
Она положила билеты рядом с рисунком.
Второй «подарок» ждал её вечером. Она возвращалась из магазина и заметила на перилах лестничной площадки своего этажа, прямо напротив её двери, небольшую свёрнутую в ткань тряпицу. Развернув, она обнаружила куклу. Тряпичную, самодельную, с вышитыми чёрными нитками глазами и растрепанными шерстяными волосами. Одна рука была почти оторвана, висела на нитке. Платьице из ситца в мелкий цветочек было выстирано до бледности.
Алиса узнала её мгновенно. Это была точная, только объёмная копия той маленькой фигурки, что держалась за руку на рисунке в белой комнате. Та самая кукла.
Она поднесла её к лицу, и запах – слабый, едва уловимый аромат детского мыла, пыли и чего-то сладковатого, ванильного – ударил в нос. И снова вспышка. Не зрительная. Тактильная. Ощущение этой тряпичной фактуры под пальцами. Тяжесть куклы на руках. И голос, свой собственный, но кажущийся чужим, говорящий: «Не плачь, Лия. Вот, держи. Она будет тебя охранять. Я её заколдовала.»
Она вошла в квартиру, прижав куклу к груди. Это уже не было страшно. Это было мучительно. Как медленное оттаивание конечности после обморожения – больно, но означает жизнь.
Она положила куклу на полку, рядом с билетами. Получался странный алтарь.
Третье послание пришло ночью, в виде СМС с нового неизвестного номера. Снова аудиофайл. На этот раз она слушала его не в тишине, а в наушниках, укутавшись в плед, как в кокон.
Сначала тишина. Потом – звук, который заставил её содрогнуться. Метроном? Нет. Тиканье капель. Чёткое, ритмичное. Кап-кап-пауза. Кап-кап-пауза. Тот самый ритм дождя по козырьку.
И на фоне этого ритма – голос. Девичий, тонкий, чистый. Не взрослый, но и не совсем детский. Голос, который напевает полушепотом, чуть фальшивя на высоких нотах. Песенку. Старую, забытую, колыбельную.
«Спят усталые игрушки, книжки спят…»
У Алисы перехватило дыхание. Она не просто узнала мелодию. Она узнала манеру. Ту самую, с какой пела её мама, когда они с Лией… Нет. Когда она, Алиса, болела в детстве. Но память тут же услужливо поправила: нет, не она. В памяти был образ: она лежит в своей кровати, а с верхнего яруса двухъярусной кровати доносится это тихое, фальшивое подпевание. Лия. Лия всегда подпевала маме, пытаясь попасть в ноты.
По коже побежали мурашки. Голос в записи пел один, без аккомпанемента. И в конце куплета, на словах «и всю ночь напролёт», голос дрогнул, перешёл в шёпот и пропал. Осталось только тиканье капель. Ещё на несколько секунд. Потом щелчок.
Алиса сидела, не двигаясь, пока в наушниках не воцарилась полная тишина. Песенка. Та самая, от которой у неё всегда, с непонятного детства, сводило живот тоской. Она думала, это память о матери, о её болезни. А это была память о сестре. О том, как они засыпали под одинокий голос в темноте, в той самой комнате, которая… исчезла.
Послания не угрожали. Они напоминали. Тоскливо, настойчиво, как прилив, размывающий песчаный замок её ложной памяти. Кто-то знал её настоящее прошлое и по капле возвращал его ей. Кто-то, кто звал себя Лией.
На следующее утро, открывая дверь, чтобы выйти, она увидела на пороге маленькую, сложенную вчетверо бумажку. Простой листок в клетку, оторванный от блокнота. На нём был тот же детский почерк, но теперь увереннее, твёрже, словно писала взрослая рука, имитирующая детскую манеру.
«Алиска. Они проверяют стены. Ищут трещины. Я всё ещё держу ту брешь за тебя. Но стены рушатся. Скоро они увидят. И ты должна увидеть первой. Помни качели. Помни песню. Помни запах больницы после. Это ключ. Ищи дверь. Твоя Лия.»
Алиса схватила записку, захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной, как осаждённая. Сердце колотилось, в висках пульсировало.
«Держу брешь за тебя». Что это значит? Брешь в чём? В памяти? В реальности? В системе, что стёрла 23 минуты?
«Стены рушатся». Стены её ложной жизни? Или стены той самой белой комнаты?
«Помни запах больницы после.» После чего? После качелей? После песни? Этот запах – антисептик, лекарства, страх – он уже витал в её воспоминаниях, связанный со шрамом.
«Это ключ. Ищи дверь.»
Она посмотрела на свою связку ключей, валявшуюся на тумбочке. На тот, с биркой «Л-б. №14». Лаборатория. Дверь в лабораторию.
Записка меняла всё. Лия не была пассивной жертвой, запертой в прошлом. Она была активной силой. Она «держала брешь». Она посылала сигналы. Она боролась – за что? За то, чтобы Алиса вспомнила?
Почему сейчас? Почему стены «рушатся» именно сейчас?
Алиса подошла к окну и осторожно раздвинула штору. Напротив, в том же окне, где раньше стояла тёмная фигура, теперь никого не было. Штора была плотно задёрнута.
Она вернулась к столу, к своему «алтарю». Билеты. Кукла. Рисунок. Записка. Физические доказательства существования Лии. И доказательства того, что за ней, Алисой, наблюдают. И те, кто наблюдает, и та, кто посылает весточки, – все играют в какую-то сложную, смертельную игру, правила которой ей неизвестны.
«Ищи дверь.»
У неё был ключ. Но где была дверь? Она села за компьютер и начала искать. «Лаборатория №14» в городе. Ничего. Частные клиники, исследовательские центры, заброшенные НИИ… Слишком много вариантов.
Она снова взяла в руки записку. «Помни запах больницы после.»
Она закрыла глаза, отбросила страх и попыталась не вспомнить, а войти в то воспоминание. Качели. Смех. Затем – резкий переход. Тень. Не образ, а чувство падения, потери. Потом – запах. Резкий, химический. Больница. Не коридор, а палата. Белые стены. Жужжание люминесцентных ламп. И звук… монотонного писка аппарата. И тихие голоса за дверью. Взрослые. Серьёзные. И она, Алиса, сидит на холодном стуле, вся сжавшись. А рядом… пустота. Там, где должна быть маленькая тёплая рука в её руке – ничего. Лию забрали.
Куда?
Её глаза сами открылись, и взгляд упал на сломанную руку тряпичной куклы. Почти оторвана. «Держу брешь».
Что, если «брешь» – это не метафора? Что, если это что-то буквальное? Брешь в чём-то, что удерживало их вместе? В памяти? В реальности? В некоем… барьере?
Безумие. Но всё, что происходило с ней, было безумием. И оно было единственной доступной ей правдой.
Алиса взяла ключ с жёлтой биркой. Л-б. №14. И тут её осенило. Не просто «лаборатория». Что, если это сокращение от «Лаборатория Бреши»? Или… «Лаборатория Барьерных исследований»? Звучало как научная фантастика. Но рисунок в белой комнате тоже был ненаучной фантастикой. И он существовал.
Она поняла, что не найдёт ответов в интернете. Ответы были в её памяти, которую кто-то замуровал. И Лия, как Сашенька из сказки, кидала ей через эту стену камешки-напоминания: билет, куклу, песню.
«Стены рушатся.»
Возможно, это означало, что тот, кто их построил – «Админ-7», система, врачи – теряет контроль. Возможно, Лия делала что-то, чтобы разрушить эти стены изнутри. И теперь ей, Алисе, нужно найти дверь, пока обрушение не похоронило их обеих под обломками лжи.
Она положила ключ на ладонь. Холодный, тяжёлый, реальный. Дверь где-то была. И она, Алиса, должна её найти. Не ради расследования. Ради спасения. Ради той, что всё ещё держала брешь в рушащейся стене, чтобы через неё просачивался свет правды. Чтобы её старшая сестра, наконец, услышала зов и вернулась.
Глава 8: Вскрытие прошлого
Теперь у неё был метод, жёсткий и безжалостный, как хирургический скальпель. Она перестала доверять памяти как целому. Вместо этого она стала искать швы – места, где ткань воспоминаний была грубо сшита, где логика событий давала сбой, где эмоция не соответствовала картинке.
Санаторий «Сосновая Роща» всплыл почти сразу. Она знала, что после «чего-то» в детстве её отправили туда. В семейной легенде это «что-то» называлось «психологической травмой от падения с качелей». Именно так ей объяснила бабушка, у которой она жила после… после чего? Родители погибли в автокатастрофе, когда ей было девять. Но «падение с качелей» случилось, если верить смутным ориентирам, в семь. Два года между этими событиями были в её памяти смазанными, водянистыми, как плохая акварель.
В интернете о «Сосновой Роще» было немного. Закрытое учреждение санаторного типа для детей с «психо-неврологическими отклонениями и посттравматическими синдромами». Закрылось в конце 90-х, здание позже выкупил частный лицей. Ничего криминального. Но и ничего конкретного.
Алиса поехала к бабушке. Ей было тяжело – старушка жила в дачном посёлке, её память уже сильно подводила. Но Алиса надеялась на документы, фотографии, любые артефакты.
– Бабуль, ты не помнишь, когда меня отправили в тот санаторий? «Сосновая Роща»?
Бабушка смотрела на неё мутными глазами, жевала беззубым ртом.
– В Рощу? А, это когда… когда с девочкой той беда случилась.
– С какой девочкой? – сердце Алисы замерло.
– Ну… с сестрёнкой твоей. Или… нет. Не сестрёнка. Подружка. Да какая разница. Упали вы, что ли. Тебя откачали, а её… – бабушка махнула рукой, – куда-то увезли. Родители потом… ох, не помню я. Суета, больница. А тебя в санаторий, чтобы отходила. Вернулась – другим ребёнком. Тихая такая, молчаливая. Как будто тебя подменили.
Ледяная игла прошла по позвоночнику. «С сестрёнкой твоей. Или подружкой».
– Бабушка, а фотографии есть? Мои, вот тех лет, до санатория?
Бабушка поковыляла к старому серванту, долго рылась и вытащила потрёпанный картонный альбом с выцветшими снимками. Алиса листала страницы, и её охватывало странное чувство дежавю. Вот она на трёхлетии, с бантом на голове. Вот с родителями у ёлки. Всё знакомо, но… плоское. Как будто она смотрела на фото чужого ребёнка, о котором много читала.
И вот она нашла его. Снимок был не вклеен, а вложен между страниц. На нём была девочка лет семи. Стоит на фоне знакомого панельного дома (бабушкиного?), в ярком сарафанчике в горошек, который Алиса бы никогда на себя не надела. Волосы заплетены в две тугие, ровные косы, хотя Алиса всегда носила чёлку и короткую стрижку. Девочка улыбалась в камеру, но улыбка была какой-то… заученной, напряжённой. В глазах – тень, которую не мог скрыть даже дешёвый фотоаппарат.
Алиса перевернула снимок. На обороте, синими чернилами, был тот самый корявый детский почерк, который она теперь узнавала безошибочно. Но в этом почерке уже угадывались будущие, взрослые черты её почерка. Тот же наклон, та же манера выводить заглавную «А».
Надпись гласила: «Мы – Алиса и Лия. 12 июня. Нас сфоткал папа. Я (А.) сегодня дежурю. Л. плачет, потому что я не дала ей красный карандаш. Но мы всё равно одна команда.»
Мир сузился до размеров этой фотобумаги. Алиса не дышала, впитывая каждую букву. «Мы – Алиса и Лия». Не «я и Лия». Мы. Одна команда.
Девочка на фото была ею. И не ею. Это была та Алиса, у которой была сестра. Та, которая «дежурила». Та, которая помнила ссору из-за красного карандаша. Та, чья жизнь была разделена на «до» и «после» не падения с качелей, а чего-то гораздо более страшного.
И самое главное – на фото была только одна девочка. Но подпись говорила о двух. Где же Лия? Почему её нет на снимке? «Папа нас сфоткал». Множественное число. Значит, Лия должна была быть в кадре.
Алиса пристальнее вгляделась в фото. Девочка стояла не по центру, а чуть левее. Справа от неё оставалось пустое пространство, как будто место было оставлено для кого-то. Или… кого-то убрали при печати? Но фото было любительское, плёночное, сделанное «мыльницей». Убрать человека так, чтобы не осталось следов, было бы сложно.
Что, если Лию не убрали? Что, если её просто… не было видно? Для папы с фотоаппаратом? Но для её, Алисиной, памяти на этом снимке они были вместе. «Мы».
Диссоциативное расстройство? Конфабуляция? Нет. Слишком много совпадений. Слишком много физических доказательств. Кукла. Билеты. Рисунок на стене. Записка. И вот теперь – фотография с её собственным, но другим, почерком.
Она украдкой взяла снимок, пообещав бабушке вернуть его в ближайшее время. Старушка уже забыла, о чём шла речь, и увлечённо смотрела телевизор.
Дома Алиса положила фото на стол, в центр своего растущего архива. Рядом с рисунком из белой комнаты. Две девочки. На рисунке – вместе, держась за руки. На фото – одна, но подпись утверждает, что их две.
«Мы – Алиса и Лия.»
Она взяла свой ежедневник, открыла на чистой странице и написала заголовок: ХРОНОЛОГИЯ ПРОБЕЛОВ.
Возраст 7 лет (примерно). Событие, связанное с Лией. «Падение с качелей» (официальная версия). Факт: отправка в санаторий «Сосновая Роща» на полгода. Воспоминания отрывочны: запах больницы, писк аппаратов, чувство вины, пустота рядом. Вывод: Лию забрали. Меня стёрли.
Возраст 9 лет. Гибель родителей в ДТП. Воспитание у бабушки. Память о этом периоде туманная, эмоционально плоская. Вопрос: ДТП было случайным?
Подростковый возраст. Никаких воспоминаний о Лии. Никаких вопросов о «подружке» из детства. Полное принятие версии о «психологической травме». Учёба, институт – всё как у всех. Но есть шрам на запястье без истории. Есть ключ на связке без объяснения.
Настоящее. Появление «призрака» Лии через послания. Обнаружение квартиры-призрака с рисунком. Находка фото с подписью. Получение диагноза «диссоциативное расстройство». Вывод: Кто-то (система, «Админ-7») защищает ложную реальность. Лия пытается её разрушить изнутри.
Она откинулась на спинку стула. Картина вырисовывалась чудовищная. Её не лечили. Её перепрограммировали. После того детского инцидента (несчастного случая? преступления?) её разум не справился. И вместо терапии, её… почистили. Вырезали Лию, как опухоль. Встроили новые воспоминания. А потом, для закрепления результата, возможно, убрали родителей, которые были живыми свидетелями? Слишком параноидально. Но ДТП… Проверить.
Она полезла в интернет, в архив местных газет. Поиск по датам (ориентируясь на год, когда ей было девять), по фамилии её родителей – Смирновы. И она нашла. Небольшая заметка в городской газете «Вестник»: «В результате лобового столкновения на трассе Р-132 погибли двое: Виктор и Светлана Смирновы. Причина – нарушение правил обгона со стороны второго участника, который скрылся с места ДТП. Виновный не найден.»
Слишком чисто. Слишком удобно. Сирота, воспитываемая бабушкой, далёкой от реальности, – идеальный объект для контроля.
Кто мог это сделать? «Санаторий»? Кто стоял за ним? Возможно, то самое учреждение с вывеской «Л-б», ключ от которого у неё был.
Алиса вернулась к фотографии. Она рассматривала своё детское лицо, ища в нём черты той, взрослой, что смотрела на неё из зеркала. Это была она. Но это была и не она. Это был сосуд, из которого выплеснули половину содержимого и долили водой забвения.
«Я (А.) сегодня дежурю.»
Что это значит? Дежурю. Дежурство по дому? Или… дежурство в каком-то другом смысле? Дежурство по защите? По наблюдению?
Она вспомнила ощущение из белой комнаты: «Ты – старшая. Ты – защита.»
И голос в аудиозаписи: «Лия, держись… Это я виновата…»
Вина. За что? За то, что не уберегла? За то, что «дежурство» провалила?
Алиса встала и подошла к зеркалу в прихожей. Смотрела на своё отражение – уставшее, с тёмными кругами, но знакомое до боли. И попыталась представить рядом, в отражении, другую фигуру. Немного ниже. С такими же, но более мягкими чертами. С тёмными глазами, в которых всегда плескался смех.
«Лия, – прошептала она. – Сестра.»
Слово, произнесённое вслух, ударило с невероятной силой. Оно не было чужим. Оно было родным, как собственное имя. Оно было правдой, которую она носила в себе все эти годы, под слоями лжи. Правдой, которая теперь, как прорвавшийся нарыв, выходила наружу, неся с собой боль, тоску и странное, щемящее облегчение.
Она не была одна. Она никогда не была одна. Её одиночество было тюрьмой, построенной вокруг неё. А ключ от камеры был в её же памяти. И теперь этот ключ начинал поворачиваться.
Она вернулась к столу, взяла в руки фотографию. Смотрела на ту девочку в горошек, которая знала правду. Которая писала: «Мы – Алиса и Лия».
«Хорошо, – тихо сказала Алиса, обращаясь к той, семилетней, и к той, невидимой на снимке. – Я всё поняла. Ты не призрак. Ты – моя сестра. И они тебя украли. Или спрятали. И теперь ты зовёшь на помощь.»
Она положила ладонь на фотографию, поверх изображения девочки.
– Я иду, Лия. Я всё помню. Или почти всё. И я найду тебя. Или найду тех, кто знает, где ты. И стены, которые они построили, – я их разрушу.
Это была не метафора. Это была клятва. Клятва, данная себе, своему украденному детству и той, чья тень, наконец, обрела имя и голос.
Расследование закончилось. Началась миссия спасения.